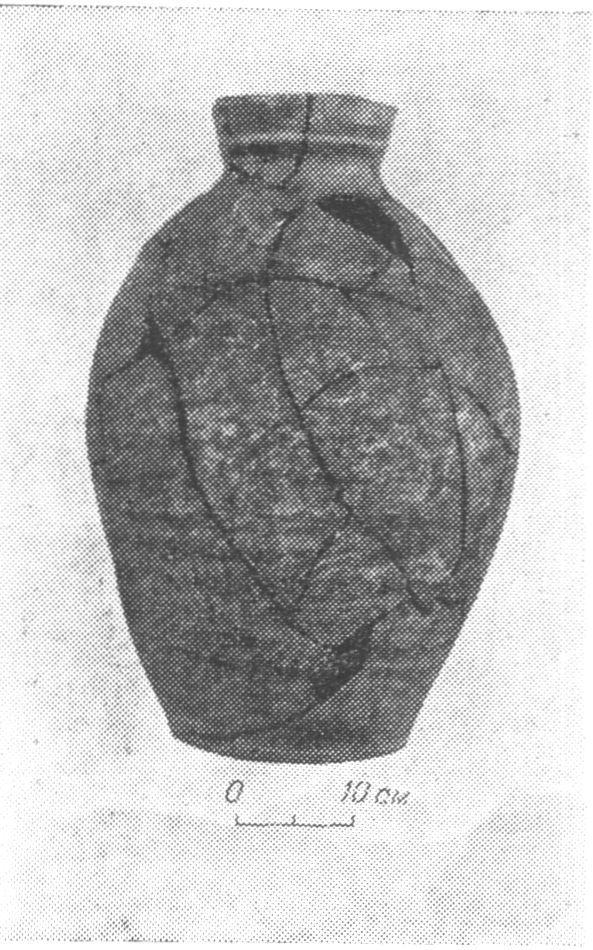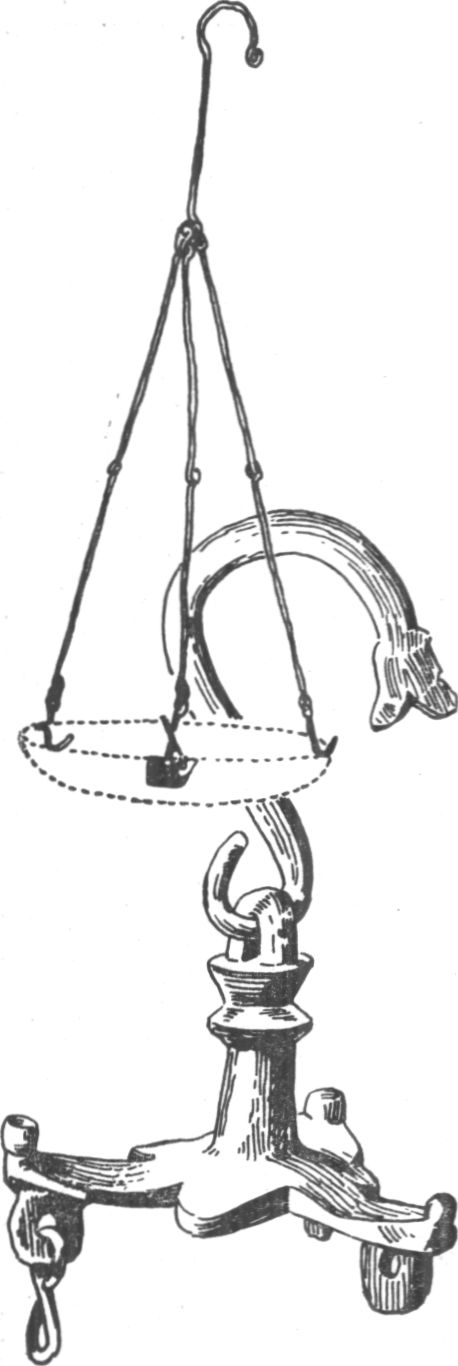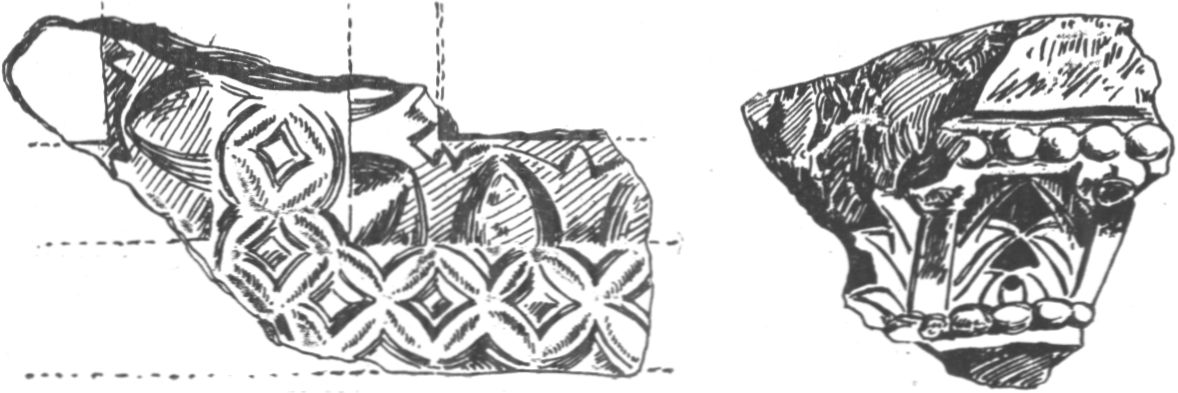На Аю-Даге каждый камень отдает древностью, все здесь овеяно легендами, а одна из них — широко известная легенда о Медведе — объясняет название горы. Богат Аю-Даг — Медведь-гора и археологическими памятниками. По стародавней традиции их связывают с таврами. Но, может быть, и это не более чем легенда? Кому же принадлежали заброшенные давно жилища и многочисленные храмы, кем построены оборонительные стены, знаменитое на весь свет укрепление на вершине?
Об этом — книга, посвященная Аю-Дагу. Авторы ее раскрывают увлекательную историю многолетних археологических изысканий — историю догадок, домыслов, разноречий, накопившихся за полтора с лишним столетия. Познакомится читатель и с результатами раскопок, проливающих свет на неясное происхождение аюдагских руин, на само название горы.
Содержание
- Век минувший
- Где был «Бараний Лоб»
- Тавры, Дева и Еврипид
- «У купі не держиться»
- «Медведь» или «Святая»?
Предисловие
К чему холодные сомненья?
Я верю: здесь был грозный храм
Где крови жаждущим богам
Дымились жертвоприношенья…
Александр Пушкин
Папа! А для чего нужна история?..
Марк Блок
Кто, когда, почему облюбовал под свое обиталище эту звероподобную гору? Кто и когда обживал укромную Партенитскую котловину у ее восточного подножия? При самой широкой, без преувеличения всемирной известности Аю-Дага ответить на эти вопросы, увы, нелегко. Более полутораста лет раздумывают, спорят историки: кто, когда, почему?
Конечно, в один присест не решить загадок Медведь-горы. Но, может быть, наша книга хоть малость рассеет туман разноречий? Это поможет и нам и другим в дальнейшей разработке спорных вопросов. Попробуем сначала разобраться в тех обстоятельствах — природных и исторических, в которых жили здесь люди древнего и средневекового времени. Затем поглядим, какими путями, в каких социальных и политических условиях развивалось исследование оставленных ими памятников истории и культуры, рассмотрим результаты затянувшихся и все же незавершенных исторических и археологических изысканий.
- Как известно, Черное море — колоссальной емкости резервуар поглощаемого им летнего тепла… Сущая благодать для людей, животных и растений, поселившихся на его берегах. И оно, как пишет климатолог И.И. Бабков, — регулятор температуры крымского Южнобережья, защищенного к тому же от северных ветров Главной горной грядой. Посреди Южного берега, в месте, теплейшем из теплых, лежит глубокая Партенитская котловина. В этом уютном уголке мягкую, как правило, бесснежную зиму сменяет ранняя весна, за которой следует устойчивое жаркое лето, смягчаемое морскими бризами. А когда кончается лето и спадает жара, надолго устанавливается тихая безоблачная осень.В то же время котловина влагообильна. Хотя максимум дождей приходится на зиму, в иное время года случаются то шквальные ливни, то кратковременные бури, приносящие порой неприятности. Две недремлющие речки — Токата и Партенитка чуть слышно бегут через котловину с севера на юг и обычно ведут себя прекрасно. Но в пору осенних и зимних непогод, сильных ливней или дружного таяния снега в горах эти скромницы-речки способны проявить норов: они буквально выходят из себя, разливаются, могут даже стать опасными. Это — временами. Зато они же обеспечивают неиссякаемое плодородие орошаемой ими земли.
Рожденные высоко в горах Главной гряды, южнобережные речки всегда — и в яростном захлебывающемся беге в дни вешнего вскипания вод, и в мирном прозрачном течении светлой летней порой, — за годом год, от десятилетия к десятилетию и из века в век уносят все, что ни захватят мимоходом. Они несут растворенную глину, размытый песок (детрит), камни, окатываемые ими в круглые голыши, а также «культурные остатки»: угли и кости, черепки глиняной и осколки стеклянной посуды, обломки орудий груда и мало ли что еще. Многое, впрочем, бросают они, как и прихватывают, по пути, не донеся до моря. А кое-что выносят и на морской берег, к сожалению, откладывая несомое отнюдь не в хронологическом порядке.
Случайные обнажения грунта нет-нет да и вскроют посреди котловины что-либо интересное для археолога. Однако, как правило, это вещи разновременные, хотя и на одинаковом уровне залегания: кремневый наконечник стрелы, каменный молоток, темно-серые черепки примитивного лепного сосуда могут оказаться в одном «горизонте» с почти современной железной подковой, обломком средневекового серпа или меча. Хорошо еще, если разновременность эта воочию видна. А что сказать о вещах, найденных врозь и в ограниченных по площади обнажениях, когда нельзя уловить, насколько широко простираются те или иные слои? Было бы непростительной ошибкой пытаться определять в подобных случаях «возраст» хотя бы клочка побережья, а тем более — опрометчиво решать, с чего и в какое время началось освоение его человеком. Вода могла принести и отложить эти вещи откуда-то со стороны и совсем не в ту эпоху, которой они принадлежали.
По природным условиям котловина, как мы видели, — местечко преотличнейшее. Так почему бы людям не поселиться здесь давно, скажем, с тех незапамятных времен, когда они начали заниматься земледелием? Сам по себе такой вопрос допустим. Тем не менее больше данных за то, что котловина — вся целиком — стала обживаться лишь в наши дни, становясь здравницей.
Следы жизни докурортной (т. е. тех времен, когда и само понятие «курорт» еще не существовало) разбросаны по холмистым краям котловины; есть они кое-где и на водоразделе между обеими партенитскими речками, а теснее всего на Медведь-горе. Туда-то зачем понесло человека? В наше время там жить никто не захочет. Зимой на Аю-Даге бывает холодно и снежно. Да и среди жаркого лета часто дымится вершина от окутывающих ее облаков. Однако люди жили там давно и в свое время застроили значительную часть горы, а лес, истребленный людьми, вырос вторично потом, уже на развалинах.
Аю-Даг, с юго-запада отгородивший Партенитскую котловину от Артека, всегда был связан с ней пригодной для колес дорогой, а также несколькими пешеходными тропами. Благодаря этому гора и урочище Партениты у ее ног исторически составляли как бы одно целое. В качестве целого мы их и рассмотрим.
Отлого наклоненная на юг, к морю, котловина с запада, севера и востока окружена цепью высоких холмов, прорезанной в двух местах названными выше речками. Таким образом, холмы делятся на три большие группы: с востока — крутобокий массив Тепелер (в переводе с крымскотатарского — «холмы, вершины»), в междуречье — Алигора (не знаем, что это значит), с запада — от северных обрывов Аю-Дага до речки Токаты — Тоха-Дахыр (переводить не беремся). На плоских холмах последнего разветвляется к Артеку и Фрунзенскому старая дорога, что отходит к морю от шумного магистрального шоссе, проложенного в горах намного выше котловины.
Тепелер уже почти весь застроен многоэтажными домами современного поселка Фрунзенское. Дома эти почти вытеснили с его склонов старинную деревеньку Партенит, которая примостилась в свое время на руинах средневекового поселения. Среди холмов Тепелера выделяется высотой и наготой шагнувший к морю скалистый Кале-Поти. Под его южным обрывом — со стороны моря — хаотически нагромождены как бы стряхнутые им с себя скальные глыбы. Между ними еще кое-где сохранились следы другого, раннесредневекового поселения — фундаменты и кладки стен. На крутом восточном склоне Кале-Поти, срезанном при строительстве лодочной станции, а затем укрепленном подпорной стеной, видны разоренные плитовые могилы — остатки некрополя.
 Деревня Партенит и утес Кале-Поти. (Из альбома Ф. Гроса. 1846.)
Деревня Партенит и утес Кале-Поти. (Из альбома Ф. Гроса. 1846.)
Ниже могильника и поселения, в пене прибоя, чернеет выступающий в море каменный мыс Кучук-Аю — Малый медведь, или Медвежонок, как прозвали его уже в наше время. На нем сохранились следы приморского укрепленьица, некогда принадлежавшего генуэзцам. Основание башни (быть может, маяка) уже не столько видно, сколько угадывается на площадке, куда ведут ступеньки, вытесанные в скале, но почти стертые временем.
С вершины Кале-Поти открывается широкий вид на окружающую местность: на Партениты, на далекую панораму Главной гряды Крымских гор, на огромный Аю-Даг, темный, заросший лесом, а когда-то — по вечерам — светивший горам и морю бесчисленными огнями усыпавших его склоны жилищ — каменных лачуг под теплыми черепичными крышами.

Медная монета с поселения в урочище Тепелер
К востоку от Тепелера высовывается в море из буйных зарослей запущенного парка гололобый мыс Плака, о котором мы еще вспомним на страницах этой книги.
Холмистый водораздел в междуречье заканчивается почти посреди котловины высокой, напоминающей усеченный конус горой Кастель-Баир.
- Не рискнем переводить и комментировать это название, равно как и другие, звучащие столь же многозначительно. Пусть у нас есть словари — татарский, греческий, итальянский, в которых можно отыскать эти самые или похожие слова, — все равно мы еще не знаем всех закономерностей средневекового словоупотребления. А они требуют, мало сказать специального, подчеркиваем — профессионального изучения. Конечно, такие выразительные частицы составных топонимов, как, например, тюрко-татарское «кале» (крепость) или греко-латинского корня — «кастель» (тоже крепость), невольно настораживают археолога, неизбежно наводят его на те или иные, иногда и удачные, догадки, толкования, предположения. Но мы условимся как можно осторожней ступать по этой шаткой половице. Ведь вот в данном случае: Кастель-Баир — «крепостной бугор»? Между тем нет на бугре этом и признака хоть какого-нибудь укрепления. Есть там заросшие травой и кустарником следы древних строений, но явно не оборонительного характера. Еще большее разочарование доставила бы нам голая и пустая вершина Кале-Поти, если бы мы доверяли — не скроем — весьма соблазнительному пониманию этого топонима как «крепости».
Высоко над Фрунзенским днем и ночью гудит широкая прямая автострада, вся в сверканье бешено мчащегося металла, в вихре шипящих колес, вспышках электрических фар. Современный транспорт, современная дорога!

Восточный край Партенитской котловины (вид с Аю-Дага). 1 — мыс Плака; 2 — урочище Тепелер; 2 — укрепление и утес Кале-Поти; 4 — скала Кучук-Аю
Безвозвратно исчезли деревянные колымаги прошлого века, неповоротливо сползавшие в Партенит с прежнего шоссе, ленивого, как старая, пригревшаяся на солнцепеке змея. Точно никогда и не было диковинных экипажей (элегантных в глазах наших дедов) или узких и неудобных пассажирских «линеек» под тентами, — фестоны, бахрома, бубенцы!..
- Тряская скачка казалась когда-то упоительно быстрой ездой — «в мыле», сквозь пыль, под свист обжигающего кнута, под множество не менее горячих восклицаний… Но и тогда, как теперь, кто-то с такой же улыбкой вспоминал о стародавней, унаследованной от средневековья дороге вдоль побережья — ухабистой, узкой, а для своей поры — магистральной. По ней с ужасным скрипом тащились — каждая на двух огромных колесах — медлительные, тяжело нагруженные арбы, влекомые неторопливыми круторогими быками. В те далекие времена ездоки, вероятно, тоже считали, что едут достаточно скоро.Можно заглянуть и глубже: стоя у той же дороги, мысленно увидеть каменистую скотопрогонную тропу, какой была она когда-то, крутые тропинки от нее — в горы и к морю; представить себе измученных вьючных и верховых лошадей, до одури утомленных путешественников…
И было ведь время — на заре человечества, — когда вовсе никто не ездил: сопя и покряхтывая, все ходили пешком с поклажей на спинах, и везде были только тропинки.
Но даже тропу, а тем более ездовую дорогу, всегда кто-то с той или иной целью контролировал, охранял, так или иначе регулировал ее использование.
У каждого времени свое лицо, а при смене эпох — равновеликие контрасты между отсталым вчера и передовым сегодня. Веками вместе с транспортом растет и совершенствуется дорожная сеть. Основные пути, однако, подолгу остаются на одних и тех же местах; каждая новая, более совершенная дорога, ложится, как правило, поверх старой, как бы вбирая ее в себя. Все начинается с глухих, чуть заметных троп, а кончается иной раз блистательной автострадой, поддерживаемой и охраняемой всей мощью современного государственного аппарата.
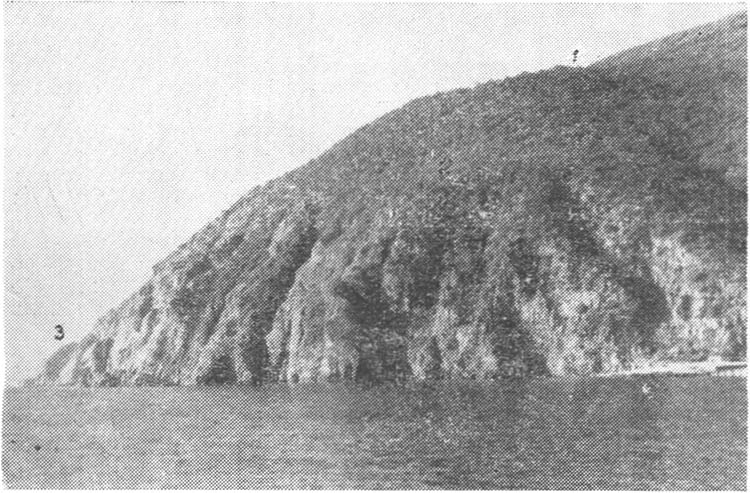
Общий вид юго-восточного склона Медведь-горы. 1 — поселение на поляне Ай-Констант; 2 — храм над морем; 3 — часовня на мысу
Происходило и обратное: замирала отличная, еще вчера многолюдная дорога, а на ее месте, смотришь, — тропинка, а то и ничего, один бурьян. Это не оттого, что вспять повернула история. Меняются порой ранги дорог; возрастает или убывает относительная значимость тех или иных путей, и при этом роль какого-то из них в общем комплексе может свестись к нулю.
Оба эти процесса прослеживаются на Аю-Даге и в его окрестностях.
- Происходит такое всегда по каким-либо основательным, нередко исторически важным причинам. Поэтому позволим себе сказать, вероятно, не слишком преувеличивая: история цивилизации могла бы сделаться топтанием на месте, не стань она с первых же шагов — клянемся ГАИ! — историей путей сообщения. То есть всяческих дорог — от человека к человеку, от дома к дому, от села до села, от них до ближайшего города, а от него к другим городам и, наконец, из каждой страны в соседние страны.
Партениты, Аю-Даг, два-три примыкавших к ним урочища некогда составляли тесный средневековый мирок, являвшийся сердцем Южнобережья; но вряд ли сам он сознавал, сколь крепко был связан сетью троп и дорог с Таврикой в целом, с византийским Херсонесом, Малой Азией, всей Византией, Восточной Европой… Короче — с Миром. Ведь несмотря на это он долго (до VIII в.) оставался глубоко провинциальным углом, одним из самых варварских закоулков этого уже почти цивилизованного мира.
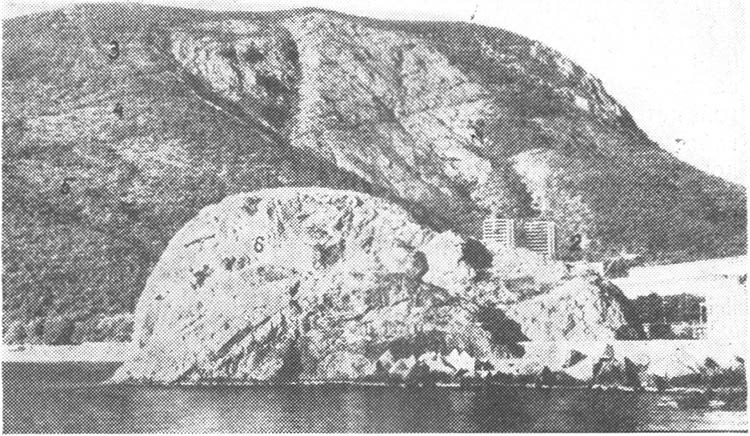
Вид с моря на центральную и северо-восточную часть Аю-Дага. 1 — кольцеобразное укрепление; 2 — базилика св. Апостолов; 3 — верхняя оборонительная стена; 4 — средняя оборонительная стена; 5 — нижняя оборонительная стена; 6 — скала Кучук-Аю со следами генуэзской башни; 7 — поселение VIII—X вв.
Наступил, однако, и тот неизбежный момент (речь о нем впереди), когда вдруг оживилась, начала шириться и совершенствоваться сразу вся сеть южнобережных дорог, дотоле глухих и безвестных. Труднодоступные и крепкие их запоры — укрепления горных перевалов — рухнули под натиском людской волны, поднятой историческими событиями общеевропейского масштаба. И крымское поморье благодаря тем же путям-дорогам навеки слилось в одно целое с загорной Таврикой.
Партенитское захолустье не было, конечно, царством безмятежного покоя. Обитателям котловины, как и прочим грешным людям, досыта хватало житейских забот и треволнений. Вечные военные невзгоды, ежедневная опасность насилия, ежечасная готовность к вооруженному отпору или, в свою очередь, нападению на врага… Об этом красноречиво говорят три пояса стен и башен на Аю-Даге, толстенные ограды средневековых поселений, крепость на одном из холмов Тепелера. Время их существования теперь известно — VIII—XV вв.
Скудны и невнятны в средневековых литературных источниках сведения о том, что именно происходило тут в течение восьми столетий. Некоторый свет проливают на них новые источники — эпиграфические, нумизматические, историко-архитектурные. Они использованы нами в соответствующих главах книги.
«Масса урочищ с загадочными наименованиями в ближайших окрестностях, сам величественный Аю-Даг с остатками древних укреплений на нем и целым рядом разновременных могильников и церквей у его подошвы — все это вместе взятое придает особый научный интерес данной местности и указывает, наряду с часто находимыми в почве древними украшениями и монетами, что она имеет свою многовековую историю, почти теряющуюся в тумане прошлого», — писал Н.И. Репников о Южнобережье, в частности об Аю-Даге и Партените.
Задача, которую поставили перед собой авторы, — рассеять по возможности этот «туман». Конкретно это значит — «кто, когда, почему». Но прежде чем ответить, необходимо сначала установить время возникновения каждого из археологических памятников Аю-Дага и Партенита, а затем построить, исходя из дат, историческую периодизацию всего обширного их комплекса.
- Историческая картина будет неполной, если не упомянуть о более отдаленном, так сказать «досредневековом» прошлом Аю-Дага и Партенита. Об этом периоде можно судить по недавним археологическим находкам К примеру, на одном из полей Партенитской котловины при вспашке обнаружен каменный топор, датируемый II тысячелетием до н. э. Правда, уже говорилось, что такие единичные пещи, найденные вне соответствующей археологической ситуации, еще ничего не означают, но они заставляют археолога насторожиться, помогают ему быть начеку, в постоянной готовности к новым открытиям.
За последние годы широко развернулось курортное строительство, вокруг Аю-Дага появилось много новых обнажений грунта, а в них кое-где выступают на дневной свет остатки таврских поселений и могильников первых веков до н. э. Так, может быть, и впрямь аюдагские руины — памятники античной поры, как принято было о них думать? Или это развалины все же средневековые? Мнения ученых разделились. Колебались и мы: писать нам книгу об аюдагских древностях или повременить? Подумали и решили — напишем.
Более интересных, более загадочных памятников, чем на Медведь-горе, в Крыму не найти, да и за его пределами мало им равных. Так неужели из-за того, что учеными еще не все решено, мы откажемся познакомить с ними читателя?
Скрывать нечего и незачем. Куда вернее исследовать состояние вопроса — сопоставить различные точки зрения, попытаться выяснить их происхождение. С этого мы и начнем. Разумеется, не затем, чтобы выбрать для себя и читателя ту, что выглядит, на наш вкус, привлекательней. Окончательный выбор был бы сейчас произволом. Покажем разноголосицу мнений с той целью, чтобы каждый, кто пожелает, смог вникнуть в суть научной задачи, увидеть археологические варианты ее решения.
Вопрос и его история
Трудно представить себе, чтобы современный историк безоговорочно принимал на веру свидетельства письменных источников. Мы знаем теперь, как часто бывают они неясны, да к тому же — на первый взгляд — противоречивы. Или поступают к нам через вторые, а то и третьи руки, каждый раз хоть в чем-нибудь переиначенными. Впрочем, и непосредственные свидетели истории, древние или средневековые авторы, были тенденциозны: написанное ими всегда преследовало определенную политическую цель. Даже, казалось бы, бесстрастные и точные международные и государственные акты, юридические или торговые документы на самом деле тоже окрашены в партийные цвета их авторов, как-то социально обусловлены.
И все же, с точки зрения исторической науки, цена их беспредельна. Они — основная пища историка.
- Источниковедение в наши дни — специальная отрасль истории. Критика источников — объективное взвешивание их смысла путем сопоставления между собой — отличала и прежде подлинно научное исследование. Но к нему мы прибавляем теперь использование разнообразнейших данных, добываемых при помощи других, смежных с историей, а порой и весьма от нее отдаленных научных дисциплин. Первостепенное значение приобрело при этом проецирование сведений, почерпнутых из письменных источников, на почву реальных фактов, часто на какую-либо конкретную местность с ее археологическими памятниками. Вот что становится ныне душой и ведущим методом этой еще молодой науки.А лет сто — полтораста тому назад преобладало совсем другое. Не то чтобы тогда специалисты-исследователи знали историю хуже, чем мы (не столько-то уж и прибавилось за это время новых источников!). Принципиально иным, далеким от марксистско-ленинской методологии (тогда еще не созданной) было само отношение к историческому материалу. Большинство историков не столько искало в письменных источниках путь к исторической истине, сколько брало их на веру, а в археологических памятниках находило лишь подтверждение и иллюстрацию заранее принятых мнений.
Для того чтобы понять, как возникли первые представления о связи южнобережных руин с античными мифами или событиями древнегреческой и римской истории, чтобы увидеть, каким образом и почему представления эти опередили археологическое исследование самих памятников, перенесемся мысленно в ту эпоху, когда источниковедение, а вместе с тем и изучение древних памятников Южнобережья делали первые шаги. Взглянем на эти памятники глазами образованного россиянина конца XVIII — начала XIX в. Чтобы яснее представить себе обстановку, в которой приступали к работе первоисследователи древностей Таврики, нужно как-то ощутить атмосферу того времени.
Век минувший
Крым только что окончательно и бесповоротно вошел в состав России. В 1784 г. торжественно и пышно проследовал праздничный кортеж императрицы Екатерины II — владычицы огромного многонационального государства — по первой, свежепроложенной (и для своего времени благоустроенной) «столбовой» дороге из Санкт-Петербурга в новорожденный Севастополь. До сих пор уцелели в Крыму кое-где «екатерининские мили» — каменные столбы, расставленные по этому, ныне заглохшему пути.
Великолепное путешествие царицы было актом, увенчавшим военный и политический триумф помещичье-дворянской России.
- Перевозилась с места на место бутафория — знаменитые, неоднократно и зря осмеянные «потемкинские деревни» — вместе со статистами: челядью, войсками, подневольным крестьянским людом, которому предстояло обживать новые места. На каждом этапе пути наспех подготовленная декорация встречала высокопоставленных лицедеев — сопровождавших царицу русских вельмож и ее приближенных, «августейших» иноземных гостей, иностранных дипломатов при российском дворе. Постановщики и солисты спектакля — императрица, «светлейший» Потемкин, разумеется, не ставили своей целью невозможный, да и ненужный обман Европы. Макеты будущих населенных пунктов водружались посреди еще пустынного края для того, чтобы наглядно продемонстрировать не только беспримерные достижения, но и дальнейшие «виды», т. е. экономические и политические намерения России.Поэтому-то и понадобился своего рода костюмированный праздник. Пасторали с отплясывавшими казачка пейзанами и подношениями хлеба-соли на расшитых рушниках разыгрывались перед муляжами украинских хат в степях «Малороссии». Вскоре, когда кортеж продвинулся поближе к Черному морю, хаты сменились псевдовосточными павильонами «в аравском вкусе»; сцены «изъявления покорности» татарами сопровождались соответствующими хореографическими выступлениями под писк зурны и тарахтенье бубна. А затем, когда императрица вступила в пределы античной Таврики — на земли древних тавров и скифов, — новый сюрприз: отряд прехорошеньких «амазонок», вылетев откуда-то из-за кустов, застыл на вздыбленных конях у самой царской кареты. «Амазонская рота» состояла из ряженых — жен и дочерей офицеров расквартированного в Балаклаве Греческого батальона.
Однако то был не только маскарад людей, но и маскарад идей. Экзальтированный барокко повсеместно вытеснялся так называемым классицизмом. И уже не он, а классицизм становился стилем не только искусства, а и самой жизни. Вот почему в художественном оформлении путешествия царицы — неизбежном и характерном для екатерининской эпохи — так тесно переплелись две струи: туземная полусредневековая экзотика и античные реминисценции, которыми начинала дышать вся культура дворянской Европы.
Королевский и царский абсолютизм пытался прикрыться (по образцу древнеримской империи) личиной демократизма. Безудержное стяжательство царских сановников — слуг самодержавия — не мешало им рассуждать, наподобие древних трибунов, о благе отечества; французский, британский, российский богач-помещик стремился выглядеть неким Цинциннатом, а видный чиновник-бюрократ драпировался в тогу сенатора; вельможа корчил из себя патриция, генерал — античного героя, и каждый, даже самый незначительный из монархов Европы, пыжился, пытаясь походить на римского императора.
Не было в те времена художника, архитектора, актера или театрального режиссера, не было поэта или прозаика, философа, историка, политика, который в своей творческой деятельности не отдал бы дань «классическому» образу мыслей. Классицизмом проникнут был и весь государственный, юридический, научный, даже обиходный лексикон дворянства, «классическим» было общее для всех дворян гуманитарное образование.
Российский классицизм появился в стране, не имевшей еще собственных греческих и римских памятников. Лишенный непосредственного, чувственного восприятия античности, он пробавлялся, так сказать, сухим пайком — сочинениями древних авторов, книгами их комментаторов и подражателей, стихами и театральными пьесами, картинами, скульптурами на сюжеты из греко-римской мифологии и древней истории. С пеленок все это воспринималось в смеси с исконно русскими патриархальными обычаями, феодальным крепостничеством и барством, православием и прочим бытовым и духовным отечественным багажом.
Большинству представителей дворянской молодежи классическое образование придавало приблизительно равный внешний лоск, но души дворянские были далеко не одинаковы. Иной «в садах лицея» штудировал и брал на вооружение Цицерона, Цезаря, Тацита, всерьез уходил в науку или поэзию. Такие-то и дали России плеяду крупных и великих поэтов, ученых, государственных деятелей. Другой — недоросль-«классик» — «читал охотно Апулея» и потом, дома, в деревне, жирел и барствовал не просто: для помещичьих своих затей — от бражничанья и псовой охоты до крепостных балетов или гаремов — подыскивал он, в меру личной осведомленности, подходящую «классическую» марку, окружал себя псевдоантичной декорацией и реквизитом. В памяти его от юношеских лет застревало достаточно мифологических и исторических аналогий. А все это вместе вызывало тягу к классике уже не книжной — воплощенной материально.
Столица России, другие русские города строили дворцы и казармы с «классическими» фасадами, барельефами, статуями. Наполнялись покупными коллекциями древностей императорский Эрмитаж и особняки знати. Русские архитекторы, как могли, восполняли отсутствие в стране собственных антиков. В садах и парках «Северной Пальмиры» создавались фальшивые руины античных храмов.
В поместьях царей и вельмож возводились псевдоримские термы (бани) и тому подобные сооружения: тут — бельведер с изящной колоннадой или павильон «в античном духе», там — искусственный грот на берегу заросшего пруда.
Псевдоклассицизму, ставшему — в сфере идей — мировоззрением высших слоев общества, а во внешних формах бытия — исторической модой целой эпохи, обязаны мы не только появлением многих подлинных произведений искусства, литературы, но и тем зрелым знанием древней истории, которым теперь располагает наука. Но тогда, на первых порах, это было именно модой, властно вторгавшейся и в науку.
Сразу же после присоединения Крыма к России первоисследователи один за другим едут на юг — путешествовать на манер греческих и римских историков, географов, естествоиспытателей. Таврида для них — terra incognita, и они пишут о ней, подражая Геродоту и Фукидиду или копируя Плиния, Страбона, Птолемея. Весьма образованные отечественные и иностранные путешественники по Южной России широко используют свидетельства древних об этой земле, комментируя их — не всегда наивно, чаще со знанием дела, наблюдательностью, остроумием.
Надо сказать, что такого рода деятельность не была личной прихотью, и ни в коем случае не следует неблагодарно отбрасывать оставленное ими научное наследие: мы достаточно часто и широко пользуемся их добром, хотя псевдоклассические ужимки и делают иногда этих писателей чуть-чуть комичными в наших глазах.
Изучение Тавриды диктовалось прежде всего нуждами «благоустроения», т. е. необходимостью создания в Крыму такой гибкой и практичной административной структуры, которая бы удовлетворяла и российского помещика, ставшего хозяином изрядной части новых земель, и туземную татарскую знать, что пошла в русскую службу, охотно вливаясь в ряды российского титулованного и нетитулованного дворянства, и тех иностранных колонистов, которых призвало в Крым правительство России для заселения пустующих земель. Чтобы поднять экономику края, расшатанную долгой войной, на деле и быстро осуществить освоение полуострова, надо было активно, в бодром темпе изучить его природу, население, историю.
Первый исследователь «Таврической области» К.И. Габлиц, командированный для этой цели правительством, был естествоиспытателем, а не историком, но оставил собранные им драгоценные для историка сведения по топонимии, этнографии и палеоэкономике Тавриды, тоже естествоиспытатель и государственный служащий, пристально и всесторонне изучал Тавриду, в том числе и в плане историческом.
Чиновные, служилые люди — П.И. Сумароков, В.В. Измайлов, И.М. Муравьев-Апостол (отец поэта-декабриста), путешествуя по служебным делам, оставили по себе записки, полные плодотворнейших исторических экскурсов в отдаленное прошлое Крыма. У любого из них то и дело встречаются имена древних авторов, свидетельства которых на ходу используются эрудированным путешественником; мелькают мифические или подлинные эпизоды древней истории, прямо адресованные или с немалым основанием привязываемые к тем или иным местам Таврики.
- Крымские впечатления, проникнутые образами античной Греции и древнего Рима, отлились в стихах, путевых записках, письмах поэтов классического направления, в чьем творчестве — особенно на почве Тавриды — родилось романтическое ответвление литературного классицизма. Подхваченное и развитое их продолжателями и подражателями, оно к концу века — увы — было затаскано и мещански опошлено эпигонами романтизма. Но то была еще пора его расцвета, когда Крым посетили В, А. Жуковский (1817 г.), А.С. Пушкин (1820 г.), Адам Мицкевич и А.С. Грибоедов (1825 г.). Они, в свою очередь, нимало не колеблясь (и часто не без оснований), приурочивали к тем или иным местам Тавриды то какое-либо событие античной истории, то эпизод связанного с Таврикой мифа или древнегреческой театральной пьесы.
Естественно, в центре внимания всех уже тогда стоял миф об Ифигении в Тавриде: для одних оттого, что он послужил Еврипиду сюжетом одноименной трагедии, для других еще и потому, что вопрос о Деве-Артемиде, богине, общей для местных варваров и пришельцев-греков, является, как увидим, одним из краеугольных вопросов древнейшей истории края.
Все как один (за исключением П.И. Кеппена) увлекались поисками святилища Девы, находившегося, по указаниям некоторых древних авторов, в Таврике, где-то над морем, на круче мыса Партенион, о местоположении которого приходилось строить догадки. Впрочем, нашлось в Крыму место, подходящее по названию — Партенит. Ну как было не ухватиться за это совпадение! А что не соответствовало такой локализации (в текстах тех же античных авторов), отбрасывалось со всей беззаботностью, свойственной младенческому состоянию источниковедения.
Следующим номером в такого рода историко-географических изысканиях шел загадочный мыс Криумето-пон («Бараний Лоб»), упоминаемый — и тоже довольно сбивчиво — античными географами. Он привлекал внимание тем, что связан был с мифами о «жестоких» таврах, о золотошерстом баране и походе аргонавтов за золотым руном.
Неуловимый Криуметопон до сих пор ищут — кому не лень — в разных местах Крымского полуострова, так и эдак прикидывая указанные древними расстояния от него до других, более твердо локализуемых пунктов крымского и малоазийского побережья. Беда в том, что у разных античных авторов расстояния эти различны, как и мера длины — стадий, величина которого в древности колебалась (в разное время и в разных местах) от 145 до 250 м.
Таким образом, одним из кандидатов на «должность» Криуметопона стал Аю-Даг, тесно связанный с Партенитом. Благодаря созвучию и близкому смыслу названий Партенит и Партенион, или Парфенион (мыс, на котором, по словам Страбона, находился храм Девы), эти два понятия воспринимались как идентичные. Поскольку же Партенит все-таки не является мысом, то Партенионом нарекли Аю-Даг. Понятия «Бараний Лоб» и «Партенит» смешались, и неведомые развалины на Медведь-горе стали тут же руинами святилища Девы.
Однако о местоположении храма Девы-Артемиды высказывались и иные соображения. Ряд исследователей древней Таврики отождествлял со страбоновским Партенитом не Аю-Даг, а мыс, который в наши дни именуется Херсонесским.
П.С. Паллас первым из работавших в Крыму ученых уделил внимание этой теме.
- В 1793 г. он, занявшись описанием древнего Херсонеса, выполнил то, что в наши дни называется археологической разведкой. Позднее по его следам прошел И.М. Муравьев-Апостол, а затем известный в Западной Европе исследователь — Ф. Дюбуа де Монпере, посетивший Кавказ и Крым по поручению Французской Академии. Он рассказывает, что к Палласу присоединился английский путешественник Кларк. На побережье между Балаклавой и Херсонесом искали они следы разрушенного скифами Ктенунта — гавани херсонеситов — и упомянутого выше Партениона. Паллас весьма скептически отнесся к локализации «некоторыми» Партениона на обрывистом берегу близ Георгиевского монастыря — на месте, где найдена была в его время древняя каменная колонна.Дюбуа, как и Муравьев-Апостол, обратил внимание на один из многочисленных мысов сильно изрезанного бухтами побережья между Феолентом и Херсонесским маяком: там он обнаружил заброшенные руины большого прямоугольного здания. Вокруг одиноких развалин не оказалось никаких культурных отложений, обычно окружающих жилые или хозяйственные постройки. Исходя из этого, Дюбуа пришел к выводу о культовом характере строения, и предположил, что этот мыс и есть страбоновский Партенион с остатками храма Девы (Артемиды греков, Дианы древних римлян). Его археологические соображения по этому поводу весьма интересны и серьезны.
Е.Н. Монтандон, автор первого путеводителя по Крыму, как и другие путешественники конца 30-х — начала 40-х годов (например, А.Н. Демидов, И.С. Всеволжский), продолжали разрабатывать ту же тему. Она сделалась традиционной, стоило лишь взяться за нее ученым-историкам.
В 1831 г. И.П. Бларамберг опубликовал статью о святилище Девы — «Дианином храме» — в районе Партенита и Ламбат. Его труд был тоже основан на сопоставлении с местностью и ее топонимией сведений из письменных источников. Казалось, за немногим стало дело — найти в окрестностях Партенита реальные остатки храма Девы, так до сих пор и не разысканные.
В те же годы был издан «Крымский сборник» П.И. Кеппена — одного из эрудированнейших первоисследователей Крыма. Труд этот сохранил свое значение до нашего времени: он беспримерен по точности, сжатости и в то же время полноте его описательной части. Домыслы же и рассуждения, всегда веские и логичные, богато оснащенные разнообразным историческим материалом, у Кеппена четко отделены от твердо зафиксированных фактов, предполагаемое — от виденного собственными глазами, гипотезы — от того, что доказано неопровержимыми и тут же приведенными аргументами.
Кеппен постоянно живет в своем имении Карабах. С 1819 г. он изучает Аю-Даг, подробно говорит о нем в «Крымском сборнике», упоминает о Партените и Ламбате, о Георгиевском монастыре и ни слова — в связи с ними — о том, что было на устах у всех, — о Криуметопоне и храме Девы.
- В 1820 г. Тавриду посетил А.С. Пушкин. Юный поэт, пылко увлеченный классической древностью, здесь, в Партените и Гурзуфе, как бы наново открыл для себя древний мир. Позднее, в Михайловском, он часто вспоминает «волшебный край», где так легко и счастливо жилось ему, бездомному изгнаннику, в семье Раевских. Оживают в его поэзии романтизированные, уже творчески обобщенные образы древней Тавриды, связанные с ней мифы: грозный храм Девы, трагедия юной Ифигении, дружба Ореста и Пилада, не омраченная разразившейся бедой.Однако на пушкинское «Я варю, здесь…», вырвавшееся из глубины его лирического «я» и вряд ли точно адресованное в какой-либо пункт полуострова, имеет право поэт, но не ученый-исследователь, чей профессиональный удел — «холодные сомненья». Через них пролегают неизведанные тропы науки, и никто заранее не скажет, на каком ее этапе отыщется историческое зерно, затерянное в шелухе разноречий, иносказаний, домыслов.
Вот в чем одна из опасностей нелегкого исследовательского пути — в домыслах: поэтических или банальных, откровенно наивных или наукообразных, чистосердечных или своекорыстных — всегда, повторяем, социально обусловленных, а то и внушенных определенным политическим расчетом.
Археологические поиски Криуметопона и храма Девы еще далеко не завершены. Дело это сделано лишь в теоретическом, подготовительном плане: стократно рассмотрены, сопоставлены, взвешены античные мифы и свидетельства древних писателей, произведена их археологическая «примерка» на подходящие места побережья. Но нет до сих пор, несмотря на все попытки, полновесного археологического подтверждения южнобережного, а тем более аюдагского местоположения загадочного памятника. Поскольку же относительно развалин на Аю-Даге существуют разные суждения, есть и довольно остроумные догадки (не лишенные каждая своих, кажущихся вескими оснований), вопрос о Бараньем Лбе и месте «Дианина храма» приходится поставить и нам. Поставить, что называется, ребром.
Где был «Бараний Лоб»
После присоединения Крыма к России русский образованный барин, материально обеспеченный и независимый владелец земли и крепостных крестьян, стал обладателем не ложных, а настоящих руин. Неважно каких — древнегреческих, римских, византийских…
Редко кто из помещиков сомневался, что именно на этой, партенитской или ламбатской, теперь его собственной земле происходило то, о чем сообщают античные авторы. На этом, а не ином берегу, прилег и уснул бежавший от мачехи юный сын царя Афаманта, удрученный гибелью Геллы — сестры и спутницы в бегстве.
А на том (теперь тоже помещичьем) лугу пасся золоторунный баран, разбудивший беспечного разиню Фрикса и спасший его от жестокости каких-то «варваров» (тавров, конечно!).

Развалины на восточном склоне Аю-Дага. (Из альбома Ф. Гроса. 1846.)
Завораживающей музыкой звучали названия южнобережных урочищ и деревень. Партениты — не иначе, как от Девы (Партенос!). Ламбат — это ли не «Гавань Лампады», упомянутая у Скимна Хиосского? Не сюда ли доставлена была Ифигения, похищенная в Авлиде, чтобы нести кровавую службу при храме жестокой богини?.. Вот и Криуметопон, ныне Аю-Даг, — легендарный Бараний Лоб древнегреческих и римских географов. Здесь на лесистой (и тоже помещичьей) горе — обомшелые камни каких-то развалин. Уж не место ли почитания Девы? Вспоминались строки Овидия: «Еще и ныне стоит храм, опирающийся на огромные колонны, к нему ведут сорок ступеней… Там стоит подножие, лишенное статуи богини, алтарь, который был сделан из белого камня, изменил цвет и ныне красен, будучи окрашен пролитой кровью…»
Велик, непреодолим был соблазн заявить, что здесь, а не в ином месте, обрела Ифигения брата своего Ореста, едва не заколотого ею же на алтаре Девы, увидела неразлучного с ним Пилада. Ну конечно же, именно отсюда бежала она вместе с ними, прихватив священный ксоан — деревянное изображение Девы-Артемиды…
- Аю-Даг, как уже сказано, всегда был одним из претендентов на отождествление с Криуметопоном. Кто же «кроме»? Мыс Меганом со следами каких-то древних строений и «каменными ящиками» — несомненным таврским могильником; скала у Кастрополя, носящая имя Ифигении, и тоже с развалинами (не разобравшись в их средневековом происхождении, имя скале дал, следуя классической моде, владевший ею помещик); мыс Айя — на нем, на скале Кокия, есть руины крепости, тоже, как оказалось, средневековой; мыс Феолент (по-гречески «божий») — у Георгиевского монастыря, близ современного Севастополя. Кстати, на Феоленте — голом утесе — нет древних построек, но тем не менее привязывалось и к нему античное название Партенион — от Девы, почитавшейся рядом, в Херсонесе…
Как же обстоят дела с локализацией Криуметопона на современном уровне изученности письменных источников?
Имеется ряд упоминаний о нем древних авторов. Первое из них встречаем мы в «Описании моря, прилегающего к населенной Европе, Азии и Ливии», которое приписывалось автору IV в. до н. э. Скилаку Кариандскому, но принадлежит не ему, а другому — анонимному писателю, известному в исторической литературе как Псевдо-Скилак (вторая половина IV в. до н. э.). Его сообщение о Криуметопоне сводится к следующему: «За скифской (землей) народ тавры заселяет мыс материка, а мыс этот выдается в море. В Таврической земле живут эллины (у которых) следующее: торговый город Херсонес, мыс Таврической земли Бараний Лоб. Затем опять живут скифы, в земле которых следующие эллинские города: Феодосия, Китей и Нимфей, Пантикапей, Мирмекий. От Истры до Бараньего Лба три дня и три ночи… От Бараньего Лба до Пантикапея день и ночь пути».
Из приведенного отрывка можно заключить лишь одно — что Псевдо-Скилак рассматривал мыс Криуметопон как место, освоенное греками и являющееся мысом по отношению к «мысу материка» — «таврической земле», т. е. полуострову в целом, на котором жили тавры.
- После Псевдо-Скилака Бараний Лоб упоминали еще одиннадцать античных авторов, в том числе Скимн Хиосский (III—II вв. до н. э.), Страбон (64 г. до н. э. — 24 г. н. э.), Помпоний Мела (около 44 г. н. э.). Плиний Старший (23—79 гг. н. э.). Известия их широко использовались всеми авторами прошлого и нынешнего столетий. Однако все это — неясные и зачастую взаимоисключающие свидетельства. Кроме того — подчеркнем еще раз — ни у кого из древних писателей нет указаний о том, что на Криуметопоне находился храм Девы. Упоминание же в связи с Бараньим Лбом каких-то «варваров», в которых при желании можно увидеть и тавров, имеется у Псевдо-Плутарха (I в. н. э). В своем мифографическом объяснении названия этого мыса он привязывал к последнему эпизод мифа о Фриксе, где рассказывается, как златорунный овен (баран) разбудил уснувшего юношу.Известия древних географов большей частью скудны и сбивчивы. Трудно решить, кто из них самолично побывал в Таврике, а кто описывал ее лишь на основании чужих рассказов или компилируя и переиначивая не дошедшие до нас письменные свидетельства других путешественников.
Совсем иное дело — сообщения периплов, своего рода лоций, составлявшихся по поручению римских и византийских императоров. Их писали люди, изучившие местность
Первым документом, дающим относительно достоверное описание побережья Таврики, был «Перипл Понта Эвксинского» Арриана Флавия, написанный в 134 г. н. э. Важность этого источника так велика, что мы, не боясь быть навязчивыми, приводим отрывок из него дословно:
«От Пантикапея до местечка Казека, лежащего при море, 420 стадиев; отсюда 280 стадиев до опустевшего города Феодосии; и это был древний эллинский город, ионический, колония милетцев. Отсюда 200 стадиев до покинутого порта скифо-тавров, а отсюда до Лампады в Таврической земле 600 стадиев. От Лампады до порта Символа, также таврического, 520 стадиев. Отсюда 180 стадиев до Херсонеса Таврической земли…».
Арриан не говорит о Криуметопоне, однако его сведения дополняются другим Периллом, написанным около V в. н. э. анонимным автором, известным как Псевдо-Арриан. Он несомненно пользовался текстом Арриана Флавия, но прибавил к нему указание расстояний в римских милях и некоторые другие подробности. Псевдо-Арриан сообщает следующее: «…от Лампады до высокой горы Бараньего Лба, мыса Таврической земли, 220 стадиев, 29⅓ мили… От Бараньего Лба до таврической же гавани Символа, называемой также гаванью Символов, — 300 стадиев, 40 миль; здесь спокойная гавань. От гавани Символа до города Херсонеса в Таврической земле, колонизованного понтийскими гераклеотами, 180 стадиев, 24 мили; здесь пристань и хорошие гавани».
В обоих периплах расстояние между пунктами указано в стадиях. Это дает возможность с большой уверенностью локализовать Криуметопон, произведя отсчет расстояний от известных нам античных городов Херсонеса и Феодосии и учитывая при этом кривизну побережья. Однако при переводе греческого стадия в современную метрическую систему мер сталкиваемся с серьезным препятствием — разным размером стадия у различных античных авторов. Повторяем: метрическое содержание стадия у древних колебалось от 145 до 250 м.
Не опрометчиво ли производить какие бы то ни было расчеты, руководствуясь настолько неточной единицей измерения? На помощь приходит сравнительный анализ стадиев у различных античных авторов. Его можно произвести, исходя из расстояний между географическими пунктами, известными в настоящее время, со стопроцентной точностью (например, расстояние между Родосом и Александрией). Проделав это, наш современник Л.В. Фирсов пришел к выводу, что большинство античных географов — за редким исключением — пользовалось стадием, равным около 160 м.
Переведя стадии Арриана Флавия и Псевдо-Арриана в метры, несложно получить расстояния от Бараньего Лба (цели наших расчетов) до известных нам пунктов: до Лампады (Ламбат — между горой Кастель и мысом Плака) — 35,2 км, до бухты Символов (Балаклавская бухта) — 48 км.
Таким образом, оба перипла, вместе взятые (а это источники, которые можно считать наиболее достоверными), по-видимому, указывают на мыс Ай-Тодор, где была римская крепость Харакс, построенная — предположительно — на месте укрепленного поселения тавров. Географическое положение этого мыса, высота его обрывов, кажущихся очень внушительными с небольшого корабля, — все это довольно похоже на сжатые описания Бараньего Лба у древних. Косвенно такую локализацию подтверждают и географические расчеты Птолемея, поставившего Бараний Лоб и Харакс в одной долготе (точностью его вычислений восхищался И.М. Муравьев-Апостол).
Исходя из фирсовского определения стадия, Криумегопон, можно, по-видимому, локализовать всего менее на Аю-Даге, хотя именно к тому склоняется сам Фирсов вслед за своими предшественниками — Бларамбергом, Дюбуа де Монпере и другими. Однако он берет за основу не указания периплов, а менее достоверные данные античных географов. И потом — почему непременно Аю-Даг, а не мыс Плака (средневековая Пелака)? Он тоже рядом с Ламбатом — Лампадой древних писателей. Правда, разведка со вскрытием грунта пока не дала на мысе Плака, как и на Аю-Даге, ничего древнее раннего средневековья. Ни тут, ни там никаких следов тавров не обнаружено, и это, конечно, существенно, хотя не надо забывать — пока. Раскопки, вероятно, прояснили бы многое: ведь в том же районе найдены (мы о них говорили) неизвестные раньше таврские поселения.
Итак, тавры. Не очень богаты наши познания об этом народе. Из письменных источников знаем мы, что жили они, эти загадочные «варвары», с греками и римлянами рядом; говоря о богине их Деве, нельзя обойти их самих. Кто они, отчего так часто говорят и так неодобрительно отзываются о них как о разбойниках и пиратах древние авторы? Верно ли, что греки восприняли от тавров поклонение их богине и отождествляли ее со своей Артемидой? Что за божество — Дева? Что известно о таврах и Деве науке нашего времени?
За ответом на эти вопросы мы обратились к специалисту, занимающемуся исторической разработкой свидетельств древних авторов.
Тавры, Дева и Еврипид
Первая половина XX в. стала своего рода Ренессансом в изучении таврских древностей, и, несмотря на скромный вид открытых памятников (по сравнению с золотом скифских курганов), они заставили совершенно иначе, чем в XIX в., взглянуть на историю Крымского полуострова, снова и не раз критически пересмотреть сообщения древних авторов.
Вся предшествующая историография исходила при характеристике уровня развития и основных занятий тавров из сообщения Геродота, повторенного другими древними авторами, что тавры — пираты и разбойники, жившие только грабежом и войной. Раскопки могильников и особенно поселений (в урочищах Уч-Баш, Кошка, Тау-Кипчак и других) дают иную картину: большая часть тавров занималась оседлым земледелием, скотоводством и ремеслом, строила примитивные дома и сооружала для погребений «каменные ящики».
Освещение всех вопросов, связанных с таврами, сейчас не входит в нашу задачу; это было бы уместнее в другой книге, специально посвященной таврским памятникам. Здесь же важно остановиться на тех моментах, которые помогут лучше понять факты, мифы а легенды, связанные с Партенитом и Аю-Дагом.
Загадкой остается название тавров, созвучное греческому слову tauroi — «быки». Что это — только совпадающие по звучанию слова разных языков (омонимы) или между ними есть историческая связь? По этому поводу высказывают самые разные предположения.
Название народа нередко восходит к имени тотемного животного, которому поклонялись далекие предки (например: саки — значит «олени», даки — «волки», галлы — «петухи»). Но условия жизни тавров и их памятники не дают оснований предполагать у них широкое распространение культа быка. Эту гипотезу надо отбросить как неубедительную.
В ряде областей древней Греции существовал культ Артемиды с эпитетом «Тавропола». Специалисты по греческой мифологии (например, О. Группе, И.И. Толстой), рассматривая миф об Ифигении, которую Артемида Тавропола перенесла на землю тавров, предполагали, что греки назвали таврами один из народов, населявших Крым, по этому эпитету Артемиды или по одноименному мифическому племени.
Но обычно бывало наоборот: для объяснения уже существовавшего, но непонятного названия греки создавали какой-либо миф (например, миф об Эгее — для объяснения догреческого названия Эгейского моря). Кроме того, наименование «тавры» засвидетельствовано греческими и латинскими надписями Крыма, в том числе и надгробными; следовательно, тавры сами употребляли это наименование.
Наконец, наиболее принятым считается мнение, что греки, услышав название народа, слегка переделали его на свой лад, приблизив к знакомому греческому слову «тавр». Так поступали все народы, встречая непонятные этнические или географические наименования на чужом языке. Чтобы далеко не ходить за примерами подобной народной этимологии, вспомним, как русские переименовали в Крыму речку Кара-Су в Карасевку, гору Кош-Кая в Кошку, поселок Сюйрен в Сюрень, а затем в Сирень, деревню Кады-Кой — в Кадыковку…
Рискнем добавить к существующим гипотезам еще одну, которая, по нашему мнению, лучше объясняет некоторые факты и позволяет привлечь ряд аналогий.
Основная горная гряда в Малой Азии называлась Тавр. Что, опять греческие быки? Нет, оказывается это название идет с Востока, скорее всего от северо-семитического tûr — горы.
По сообщению Страбона и Плиния, горы Кавказа и Гималаи считались продолжением малоазийского Тавра. То же имя носили гора в Сицилии, от которой получил свое название соседний город Тавромений, горы в верховьях реки По, где проживало лигурийское племя тавринии.
Логично предположить, что этот привычный термин (а не пресловутые быки) был использован греками, когда они познакомились с рельефом Крымского полуострова. К тому же почти все греческие колонии в Крыму основали выходцы из Малой Азии.
Внимательно читая Геродота, можно обнаружить такое выражение: скифы выкопали широкий ров «от Таврских гор» до Меотиды. В «Землеописании» римского поэта Дионисия упоминаются киммерийцы, живущие около Боспорского пролива, у холодной подошвы Тавра. В комментариях к этому месту авторы позднеримского и раннесредневекового времени поясняют, что здесь идет речь о горе Тавр, расположенной в Крыму.
Ряд византийских авторов именует Крымские горы Северным Тавром (вероятно, в отличие от малоазийского Тавра, расположенного южнее). Интересно, что до войны население Балаклавы называло одну из двух вершин западного Балаклавского массива, составляющего начало основной гряды Крымских гор, Таврос.
От малоазийского, а возможно и крымского, Тавра скорее всего и происходит название народа «тавры», т. е. живущие в горах, горцы.
- Хорошую аналогию из близкого к нам времени и ясную по этимологии дают названия «Черногория» (часть современной Югославии) и «черногорцы». Здесь нет сомнения, что первичным является название горной местности, покрытой густым лесом, а вторичным — наименование страны и ее жителей, хотя по происхождению они относятся к сербам (ср. также уральцы, кавказцы и др,).Заметим, что автор IV в. н. э. Аммиан Марцеллин называет среди тавров племена арихов, синхов и напеев. Значит, наряду с собирательным именем (ср. скифов) у них были и другие, подобно тому, как среди кавказцев мы различаем множество отдельных племен и народов.
Если принять предложенное толкование, то и древнее название страны «Таврика» будет правильнее также производить от Тавра. Ведь Таврикон древние называли обычно только прилегающую к морю горную часть Крыма.
В отличие от киммерийцев и скифов, упоминаемых в Библии, восточных хрониках, поэмах Гомера, о таврах греки узнали позже и долго имели о них весьма смутное представление. Видимо, таврские племена были не настолько многочисленны, чтобы дать название стране. Тем более трудно допустить перенесение их имени на весь полуостров, где главную часть населения составляли скифы. Наименование Крыма — Херсонес Таврический, т. е. Таврический полуостров, засвидетельствованное рядом авторов (особенно отчетливо, с обозначением границ, в «Географическом руководстве» Клавдия Птолемея), видимо, имеет не этническое происхождение, а также восходит к рассмотренным выше топонимам.
Как отмечалось, под Аю-Дагом, расположенным в древней Таврике, уже в раннем средневековье известно поселение Партенит (от греческого — «Дева»). Откуда взялось это название, сохранившееся до наших дней, и в какую даль веков оно уходит? Все ассоциации ведут в античную эпоху. Женское божество, олицетворяющее плодородие, появляется на ранней стадии развития почти у всех народов, в том числе у тавров.
По сообщению Геродота и других авторов, тавры поклонялись богине Деве, приносили ей в жертву эллинов, потерпевших кораблекрушение, и других иностранцев, захваченных в море. В античном Херсонесе и рядом с ним — в районе Таврики, вероятно, наиболее густо заселенном таврскими племенами, — произошли идентификация (отождествление) и религиозный синкретизм (слияние) греческой Артемиды и Ифигении, а также почитавшейся среди дорийцев и других греческих племен Девы, с близкой этим божествам таврской Девой. Эту синкретическую богиню и называли в Херсонесе Девой, сооружали ей храмы, статуи и алтари, посвящали специальные праздники, объявили главной покровительницей, а позже и царицей города.
- Издавна ищут путешественники и ученые храм Девы в Таврике, и, как сказано выше, имеется несколько вариантов его локализации. Но «холодное сомненье» заставляет исследователей продолжать археологические поиски, вновь и вновь обращаться к сообщениям древних авторов, пытаясь путем критики текста выделить подлинные исторические и географические сведения, причудливо переплетенные с мифами и легендами. Оставим последнюю задачу специалистам-мифографам, однако подчеркнем, что многие вслед за древними авторами, а иногда и вопреки им, допускали существенную ошибку, путая святилище таврской Девы с храмом одноименной херсонесской богини. Так, например, рассказ Страбона о храме на мысе Парфений (Партенион) есть все основания отнести не к таврам, а к херсонесцам. И поэт Овидий в «Письмах с Понта» описывает явно греческий храм с колоннами, статуей и мраморным жертвенником, какой не мог существовать у тавров.
С Таврикой связан греческий миф о дочери Агамемнона Ифигении. Артемида заменила обреченную на заклание девушку ланью, умчала ее за море, в землю тавров, и сделала жрицей в своем храме. Этот миф вдохновил Еврипида на создание гениальной трагедии «Ифигения в Тавриде».
- Несмотря на обязательный мифологический сюжет, выбор и трактовка темы обычно определялись у Еврипида современными политическими задачами. Назовем для примера «Гекубу», написанную во время Пелопоннесской войны, и «Троянок» — после экспедиции 415 г. до н. э. в Сицилию, — трагедии, пронизанные идеей мира. К тому же троянскому циклу принадлежит и «Ифигения в Тавриде», созданная около 410 г. до н. э., за несколько лет до «Ифигении в Авлиде».В конце Пелопоннесской войны, примерно с 411 г. до н. э., решающую роль для Афин играла борьба за черноморские проливы, по которым шел Понтийский хлеб. Победа Алкивиада в Геллеспонте внушила Афинам некоторую надежду на благоприятный исход войны, и все взоры были обращены на север. Это и могло привлечь интерес Еврипида к Северному Причерноморью, особенно к Крыму, где незадолго до того на земле тавров, прославившихся жестоким культом, был основан греческий город Херсонес. Еврипид, несомненно, использовал сообщения Геродота о Таврике и таврской Деве и почти дословно цитировал из его книги в конце трагедии, где царь тавров Фоант грозит с помощью богини расправиться с беглецами-греками, сбросив их с кручи или посадив на кол.
Содержание мифа об Ифигении изложено еще в VII—VI вв. до н. э. в послегомеровской поэме «Киприи», которая дошла до нас лишь в изложении позднейших авторов, но, конечно, была хорошо известна Еврипиду. Так, в пересказе Прокла Артемида, похитив Ифигению, перенесла ее к таврам, а к алтарю подставила лань.
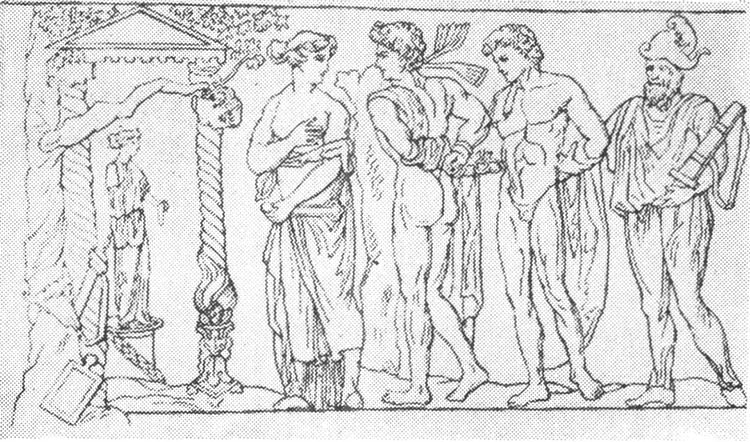 Ифигения ведет связанных Ореста и Пилада в храм Артемиды (с античного барельефа)
Ифигения ведет связанных Ореста и Пилада в храм Артемиды (с античного барельефа)
Что это — самое раннее упоминание о племенах тавров? Вряд ли. Здесь уместно вспомнить, что мифический царь Фоант назван в «Илиаде» (XIV, 230) царем острова Лемноса. И.И. Толстой обратил внимание и на другие моменты, связанные с Лемносом: там жили снятии (что значит в переводе «разбойники»), был культ Великой богини, которой приносили в жертву девушек, наконец, сам остров назывался Таврикой. Добавим, что там был и культ Артемиды Таврополы и что остров этот очень горист. Не исключено, что в «Киприях» подразумевался Лемнос, а уже Еврипид перенес действие своей трагедии в Крым, многое позаимствовав из легенд и фактов о Лемносе.
Наконец, определенную роль могло сыграть для Еврипида сходство между названием племени тавров и прозвищем Артемиды — «Тавропола». Это как бы роднило богиню с таврами Крыма, объясняло зрителям, почему именно там находился ее храм, и позволяло автору включить в ее культ черты таврской Девы с человеческими жертвоприношениями. В конце трагедии Афина повелевает Оресту и Ифигении перенести в Аттику статую Артемиды Таврополы и воздвигнуть храм в Бравроне, недалеко от Афин. В Бравроне давно существовал такой храм и культ, а поэт лишь в художественной форме объяснял его происхождение, снова вплетая в мифологическую канву подлинные факты.
Культ Артемиды Таврополы был широко распространен во многих городах Малой Азии (откуда мог проникнуть и в греческие колонии Крыма), островной и материковой Греции. Обратный же путь этого культа из Крыма в Грецию существовал только в мифах, которым верили древние, а иногда и ученые мужи последующих эпох. М.И. Ростовцев убедительно показал, что нельзя связывать эпитет «Тавропола» с крымскими таврами и выводить культ Артемиды из Таврики.
- Значение прозвища «Тавропола» трудно поддается объяснению; большинство исследователей понимает его как «Покровительница быков», так как одним из священных животных Артемиды был бык. На монетах города Амфиполя ее даже изображали скачущей на быке. Еврипид же при толковании этого прозвища не говорит о быках, а связывает его с судьбой основных героев трагедии — Ифигении и Ореста. Первую часть слова «Тавро-пола» он производит от «Таврической земли», где страдала Ифигения, а вторую — от скитаний Ореста, на которые его обрекли эринии.И все же не следует совсем забывать о быках. Греки бы изменили себе, если бы не обыграли созвучие слов тавры и быки. Поэтому появился новый вариант мифа об Ифигении, где девушку заменяет не лань, а бык. В честь этого быка Артемида якобы и назвала народ таврами, как сообщает поэт II в. до н. э. Никандр. По другой легенде, переданной Стефаном Византийским и Евстафием, египетский бог Осирис пахал на быках землю в Таврике.
Трагедия Еврипида, прославленная в античное время, продолжала вдохновлять многих поэтов. В XVI в., почти через две тысячи лет, к этому сюжету обратился итальянец Ручелли из рода Медичи, в XVIII в. — французские писатели Лагранж-Шансель, Симон Делатуш и Расин (от замысла Расина остался только план пьесы). Великий немецкий поэт и мыслитель Вольфганг Гёте сумел в созданной им «Ифигении в Тавриде» сочетать аромат античности с идеями своей эпохи. Отдала дань этой теме и Леся Украинка, написав Драму в стихах под тем же названием.
Обратимся, однако, к середине прошлого века. В это время, как и в первой его половине, по-прежнему появлялось множество дилетантских сочинений о Крыме. Пестрый набор самых разнообразных сведений, разноголосица мнимоисторических толкований древних и средневековых источников, противоречия в описаниях памятников, вороха догадок и наукообразных домыслов — все это способно оглушить и сбить с толку того, кто без должной подготовки погрузится в безбрежную литературу о древностях южной Таврики.
- Сумбурное состояние вопроса во второй половине XIX в. ярче всего проявилось в работах самого плодовитого и потому наиболее популярного из крымских дилетантов-историков — В.Х. Кондараки. Без разбора наполняет он свои статьи и книги всем, что ни увидит или услышит, Неточно описывая, наивно, иногда шовинистически-тенденциозно объясняя увиденные памятники или на свой слащаво-сентиментальный лад пересказывая местные легенды, воспоминания старожилов, свидетельства древних авторов и высказывания современных ему ученых. Однако при всем скептицизме по отношению к нему будем все же благодарны этому крымскому помещику за то, что он сохранил хоть клочки ценных для науки сведений из прошлого Тавриды.Но, кроме подобных «исследователей», в Крыму тогда начали работать и более серьезные люди, в том числе уже появившиеся в России профессионалы-археологи. Их-то труды и легли в основу современных научных исследований.
Противоречия, хотя и совсем иного характера, свойственны не только дилетантским творениям, но и вполне профессиональным археологическим работам; Это особенно справедливо для конца прошлого века, когда археология лишь начинала формироваться как наука.
Издавна ходит в Крыму одна украинская поговорка — на тот случай, когда не удается осмыслить как целое какие-нибудь взаимоисключающие суждения. Вот и подходящий девиз для заключительного раздела этой главы.
«У купі не держиться»
Все варианты суждений о памятниках Южнобережья, в том числе Аю-Дага, укладываются в два русла. При всем разнообразии оттенков во взглядах на памятники выдвигаются две группы исследователей и краеведов. «Эти древности античные, таврские», — утверждают одни. Всегда-де были основания считать их таковыми. Другая группа столь же рьяно возражает: «Нет, не всегда!» По последнему слову науки они, мол, памятники средневековые.
Рассмотрим обе точки зрения повнимательнее, так сказать — от корней до плодов. Не окажется ли, что все разнообразие суждений вокруг той или иной из них выражает лишь различные этапы развития каждой?
Происхождение первой точки зрения мы осветили достаточно подробно. Остается проследить, к чему она привела, как из нее вытекло нечто стройное и наукообразное.
- В первой половине прошлого века несоответствия между античными источниками, разнобой в локализации тех или иных мест, упоминаемых в источниках, разногласия в датировках памятников, их исторической интерпретации никого всерьез не беспокоили. Подобные колебания ничего не значили в той всемирно-исторической картине, над зыбкими общими контурами которой трудились историки-профессионалы. Им (особенно маститым) было тогда не до частностей. Но существовали наряду с ними и просто люди любознательные, не историки, но хорошо знакомые с историей, а главное — с крымскими памятниками. Вот они-то занимались именно частностями, задавались вполне конкретными целями. Такое препровождение времени создавало атмосферу как бы всеобщей учености. В интеллигентных кругах Крыма особенно ощущался этот своеобразный идейный микроклимат, под благоприятным воздействием которого произрастали и соответствующие научные теории.
Противоречия во взглядах на памятники горной и южнобережной Таврики (которые в наши дни переходят в сущую неразбериху) стали выявляться одновременно с попытками перейти от догадок к построению археологически обоснованной концепции таврского происхождения так называемых «исаров» — уже упоминавшихся нами южнобережных и горных укреплений, к числу которых принадлежит и аюдагское. Примитивный вид, необитаемость с незапамятных времен, местоположение в самых глухих и заросших лесом дебрях гор, на труднодоступных кручах — все обстоятельства говорили, казалось, в пользу весьма раннего их происхождения.
В середине 70-х годов вышла в свет посвященная исарам статья М. Сосногоровой «Мегалитические памятники в Крыму». Эта статья, как и сама Сосногорова, давно и незаслуженно забыта специалистами. Кстати сказать, и теми, кто прямо или косвенно питается до сих пор мыслями, впервые с такой определенностью высказанными именно в этой дилетантской, но талантливой работе.
- Два слова об ее авторе, дабы восторжествовала справедливость. М. Сосногоровой принадлежит лучший для своего времени русский путеводитель по Крыму, выдержавший с 1871 по 1883 г. четыре издания (последнее при участии известного крымоведа Г. Караулова), а затем безвозмездно переданный ею для переработанного и улучшенного переиздания в руки более подготовленных — на уровне своего времени — специалистов Н А. Головкинского и К.А. Вернера. С того и пошла традиция старых крымских путеводителей, глубоко, всесторонне, на основе подлинной науки освещавших природу и историю края.Женщина не только умная, но и высокообразованная, к тому же довольно состоятельная, т. е. располагавшая временем, М. Сосногорова была достаточно ознакомлена с трудами крупнейших ученых, работавших в Крыму в 30—80-е годы. Это положительно сказалось на содержании ее серьезных, отлично написанных работ.
В названной статье развивается мысль о том, что исары — за немногими исключениями — могут быть отнесены к мегалитическим сооружениям III—II тысячелетий до н. э., т. е. к эпохе бронзы. С исарами Сосногорова связывала находившиеся неподалеку от этих укреплений «крымские дольмены» — ящикоподобные таврские гробницы из огромных каменных плит, а также расположенные в тех же местах менгиры — остроконечные вертикально поставленные камни и кромлехи — круглые или прямоугольные ограды из врытых в землю камней. Не лишены убедительности проводимые в статье параллели со сходными памятниками Восточной и Западной Европы. Таким образом, древние сооружения Аю-Дага, вместе с другими южнобережными исарами, «кастелами», «кастрами» (т. е. разного рода укреплениями) попадали в один большой ряд с аналогичными памятниками в Крыму и вне Крыма.
По мнению, неоднократно высказанному М. Сосногоровой, «исары» носили не только оборонительный, но и культовый характер — служили первобытными святилищами Девы. Она разделяет вполне справедливую догадку Дюбуа де Монпере о том, что капища Девы могли существовать во многих местах полуострова, ибо поклонявшиеся Деве тавры расселились по всей Таврике (читатель увидит, как подтвердится эта догадка). Криуметопон, по М. Сосногоровой, — не что иное, как мыс Ай-Тодор: она судит об этом, как и мы, исходя из периплов — самых, по ее мнению, надежных указателей. Таким образом, приведенное нами соображение отнюдь не ново — ему более ста лет, но оно, согласно известной пословице, было основательно забыто. В развалинах на Ай-Тодоре и Аю-Даге М. Сосногорова равным образом видит, как и в других исарах, циклопические постройки — «древние обиталища тавров».

Развалины оборонительной стены кольцеобразного укрепления на Аю-Даге
На Ай-Тодоре известны были ей и римские развалины, впервые открытые в 1849 г. графом Шуваловым. В 1900 г. они были частично раскопаны по всем правилам науки археологом М.И. Ростовцевым. В советское время, в 1931 —1935 гг., их исследовал, продолжив работу Ростовцева, В.Д. Блаватский; в 1963 г. изучал Л.В. Фирсов при участии П.Н. Шульца — в составе Южнобережного археолого-топографического отряда Института археологии Академии наук УССР. Целью последних работ было «вложить персты» — проверить справедливость мнения о том, что римская крепость Харакс построена на развалинах захваченного римлянами укрепления тавров. Эту точку зрения, основанную на «циклопических кладках» и «кельтических жертвенниках», подкрепляли, как уже говорилось, немногочисленные находки таврской лепной керамики в Хараксе и на некоторых других исарах (но не на Аю-Даге!).
- Что же заставило современных исследователей усомниться во взгляде, складывавшемся на протяжении целого столетия?Прежде чем ответить, посмотрим, к чему в конце концов привел именно этот взгляд, но сначала вернемся к высказываниям предшественников М. Сосногоровой. Дело в том, что с самого начала существовали две точки зрения на исары Южнобережья: П.И. Кеппен не считал особенно древними примитивные южнобережные укрепления; он никогда не приписывал их таврам и ни в одном из них не видел святилища Девы. Большинство исаров было обследовано и обмеряно Кеппеном, описано в его «Крымском сборнике». Все они истолкованы им как памятники глухого и кровавого крымского средневековья — «плоды страха и бессилия». Дюбуа де Монпере, наоборот, и аюдагский Кастель и прочие известные ему исары настойчиво связывал с таврами. Надо полагать, что М. Сосногорова, как и многие до и после нее, находилась под немалым влиянием столь блестящего автора, каким был Дюбуа.
До чего же эти двое различны! П.И. Кеппен в своих осторожных умозаключениях выступает не только как проницательный историк, хорошо знающий литературу разрабатываемого вопроса, знакомый с аналогичными зарубежными памятниками, он вместе с тем исходит из точнейшего знания крымских памятников и местности, из собственных широких и длительных археологических наблюдений. По-видимому, он отдает себе отчет и в средневековом характере большей части массового подъемного материала на изученных им исарах; по крайней мере, описывая их, Кеппен упоминает не черную лепную керамику, а красноглиняные «дребезги горшечные». Дюбуа же, при всем его литературном блеске и эрудированности, отталкивался не столько от хладнокровного научного анализа археологических фактов, сколько от своих субъективных впечатлений и эмоций. Не потому ли так часто смелые его обобщения на поверку оказываются слабо аргументированными?..
В середине и даже в конце прошлого века до поверки было еще далеко. Наоборот, казалось, что все подтверждало соображения Муравьева-Апостола, Дюбуа, Сосногоровой.
В Аутке, близ Ялты, А.Л. Бертье-Делагард открыл святилище первых веков н. э. с множеством римских монет и вотивных (посвятительных) женских фигурок из глины — по-видимому, одно из поздних святилищ Девы. Открытие это, как и другие находки (прежде всего, результаты упомянутых раскопок М.И. Ростовцева в Хараксе), вполне соответствовало унаследованному от эпохи классицизма восприятию древностей Южнобережья как памятников исключительно античных. Подкрепляли такую точку зрения и местные легенды, искаженно, сквозь призму средневековья, отражающие античные мифы, а также топонимы, от которых, казалось бы, так и веет духом позднеримского милитаризма. Это определенным образом настраивало исследователей, приводило к тому, что любая безвестная развалина могла показаться античной и никакой иной.

План средневекового поселения на юго-западном склоне Аю-Дага
Позднее, уже в наше время, археологи стали все чаще констатировать явственные признаки романизации культуры аборигенного населения Таврики первых веков н. э.
При строительстве шоссейной дороги над северо-восточной окраиной поселка в 1969 г. были выявлены остатки таврского поселения I в. до н. э. — III в. н. э.. Ранее, в 1963 г., археологи нашли такое же поселение в урочище Осман, под северным обрывом самого Аю-Дага — совсем рядом с таврским могильником на Тоха-Дахыре. Тут, в урочище, еще в репниковские времена была найдена золотая монета римского императора Валерия Максимилиана (305—310 гг. н. э.), а неподалеку в 30-х годах нашего века при больших земляных работах удалось собрать немало монет этого же времени и более ранних — первых веков до н. э.. Позднеэллинистический и римский керамический материал тоже встречается здесь — не часто, но зато повсеместно; попадался он в руки археологов и на поселениях тавров и, что особенно важно, в одних слоях с таврской лепной керамикой. Стало быть, можно продлить историю этих племен и на первые века нашей эры?.. Все вместе взятое давало повод говорить о Таврике в эпоху так называемой римской оккупации. Работа под таким названием и была опубликована в 1942 г. В.Н. Дьяковым.
- Игнорируя кеппеновскую интерпретацию памятников, он позаимствовал у непонятого им Кеппена «линию» прибрежных укреплений, безнадежно спутав ее с другой, тоже кеппеновской, линией «длинных», или «нагорных», стен, некогда (как полагал автор «Крымского сборника») ограждавших страну Дори Прокопия Кесарийского, расположенную на Южном берегу. Из этой-то линии В.Н. Дьяков и соорудил (пером на бумаге) свой римско-византийский «таврический limes» — мнимую полосу якобы римских взаимосвязанных укреплений (кастров, кастелов), будто бы подобную той, что создавалась на границах Римской империи в эпоху Траяна (98—117 гг. н. э.). По мнению ученого, чуть ли не каждый южнобережный исар был, как и Харакс, римской крепостью.
Отметим, что с этого момента разработка проблемы крымских исаров перерастает пределы крохотной Таврики и приобретает общеисторические масштабы. Возражать против этого не приходится. Что происходит на Крымском полуострове, то редко не имеет исторического значения для Причерноморья, да и для всего в целом юга Восточной Европы. Но это соображение вовсе не означает, что правильны представления Дьякова о пресловутом лимесе.
- Эрудиция, логика, изобретательность в группировке и научном освещении фактов — кто стал бы отрицать подобные достоинства блестящего труда В.Н. Дьякова! Но, читая его книгу, мы наблюдаем, как остроумные домыслы, вытекая один из другого, все дальше и дальше уходят от археологической основы. Обратившись к реальным фактам, видим, как мало подкрепляется ими его соблазнительно-стройная теория; а если всмотреться, то и те немногие факты, которыми он оперирует, оказываются притянутыми. Скажем, забегая вперед, что в 40-х годах нашего века специальная и многолетняя экспедиция, при самом горячем желании подтвердить археологическими данными существование «таврического лимеса», выяснить роль его в судьбах Таврики и ее аборигенов, не нашла ни на одном из исаров никаких признаков их античного происхождения. Приходится констатировать, что слишком умозрительные построения В.Н. Дьякова не оправдались: его «limes», подобно мыльному пузырю, не выдерживает прикосновения грубой археологической действительности. Вместе с тем нельзя отрицать правоту его в том, что тенденцией Рима было глубокое освоение Таврики, превращение ее в свой форпост для экспансии в Северное Причерноморье. Византия — наследница Рима — продолжила и едва не завершила достижение этой цели.
Рассмотрим появление второй точки зрения, которая породила концепцию средневекового происхождения исаров. Ее зачинателем в 30-х годах прошлого века явился П.И. Кеппен, а своего рода «проверка на прочность» началась и продолжается в нашем веке — посредством археологических раскопок и разведок. Однако и ее формирование шло сложными, извилистыми путями.
- В 50-х годах прошлого столетия разразилась Крымская война, вызванная соперничеством России и западных держав на Балканах, Россия боролась за черноморские проливы и беспрепятственный выход своих кораблей в Средиземноморье; Англия, Франция и, в первую очередь, старый враг — Турция стремились этому помешать. Не последним козырем русского правительства было брожение порабощенных Турцией славянских народов. Их освободительное движение хотела использовать царская Россия; она объявила себя защитницей угнетенных единоверцев, братьев-славян, несмотря на то. что на деле — у себя дома — угнетала таких же единоверных и в не меньшей степени братьев — русских крепостных крестьян.Война была изнурительной, а закончилась, по существу, вничью. Она ничего не принесла России, хотя на стороне ее мог быть такой важнейший фактор, как содействие восставших православных народов в тылу врага. Однако прогнившее российское крепостничество не вызывало у балканских поборников свободы доверия к России, и козырь этот остался неиспользованным.
Более того, в Крыму и Закавказье приняло катастрофический характер бегство в Турцию трудового мусульманского населения. В немалой степени этому способствовала исламистская протурецкая пропаганда. Возникла необходимость противодействия, прежде всего идеологического, путем религиозной контрпропаганды. Ниже увидим, как ею занялась русская православная церковь.
В 1877 г. на Балканском и Кавказском театрах началась новая русско-турецкая война, усилившая национально-освободительную борьбу балканских народов. Буржуазно-дворянская Россия вознамерилась взять реванш и в оправдание своей агрессии снова развернула широкую пропаганду исконных русско-балканских связей. Стало необходимым вскрытие глубоких исторических корней этих связей. Обстановка сделалась исключительно благоприятной и для научного исследования русско-византийских отношений, и для политической спекуляции его результатами. Но, как бы там ни было, а исторический парадокс таков: появлением целого ряда выдающихся византологических штудий наука обязана этому реакционнейшему периоду прошлого века — и у нас, и в Западной Европе, ревниво следившей за каждым шагом России на берегах Черного моря.
Пристальное внимание всех медиевистов-византологов, естественно, привлекал Крымский полуостров, на котором перекрещивались и завязывались в прочный узел взаимные экономические, политические и культурные интересы Руси и Византийской империи. В то же время крымское средневековье с его многочисленными монастырями и бесчисленными храмами, с его топонимией, насыщенной именами православных святых и религиозными терминами, со всей его византийской церковностью, вызывало особый, специфический интерес российской церкви и самодержавия. Это-то можно было идейно противопоставить как явление местное и коренное всему тюрко-татарскому — временному и наносному, что еще оставалось в Крыму, противопоставить и тому политическому влиянию, которое в религиозной оболочке распространялось из Турции на магометанскую часть коренных обитателей Крыма и Закавказья. Ведь духовным владыкой этого, в массе своей весьма религиозного, населения по-прежнему оставался турецкий султан, он же — глава государства, с которым враждовала царская православная Россия.
Иными словами, исламским первосвященником стран Причерноморья был властелин Стамбула, бывшего Константинополя — Царьграда, о «ключах» которого (а заодно о проливах) мечтали правящие круги России. В этой среде Константинополь, а с ним Босфор и Дарданеллы рассматривались как византийское наследство, принадлежащее якобы «третьему Риму» — Москве.
Такова была ирония судьбы, что в том же Стамбуле — Константинополе сидел иод крылом султана другой духовный глава подвластных Турции стран Причерноморья — патриарх Константинопольской православной церкви. Пережив падение Византии, Константинопольская патриархия стала служить исламской Порте, сделалась ее пособницей в закабалении и эксплуатации подневольного туркам православного населения.
С точки зрения российской церковной пропаганды приобретало немалый и двоякий смысл разыскание на собственной территории византийских церковных древностей, прежде всего в когда-то принадлежавшем Византии Крыму, откуда для Руси «воссиял свет христианства». Благочестивое возвеличивание и почитание «святынь» подчеркивало идею преемственности «третьего Рима» от Византии и выгодно оттеняло верность русской церкви и государства воспринятому от Византийской империи православию и как бы ею же завещанной борьбе с турками-османами.
В 50—60-е годы, задолго до начала русско-турецкой войны, в Крыму шла усиленная идеологическая подготовка, в которой основную роль играла церковь. «Святые» отцы не только широко использовали результаты историко-археологических изысканий по крымскому средневековью, но и стремились взять в свои руки руководство подобными исследованиями.
На средства, выделенные Синодом, художник-иконописец и реставратор икон В.Д. Струков реставрирует роспись пещерной церкви в Инкермане и проводит широкое обследование церковных и монастырских развалин на территории Таврики. Все это делается с легкой руки «преосвященного» Иннокентия, архиепископа Херсонского и Таврического, автора докладной записки в Синод «О восстановлении древних святых мест по горам Крымским», опубликованной сначала в «Русском вестнике», а затем в собрании его сочинений. Цели этого мероприятия выражены в ней совсем недвусмысленно, и одна из них особенно примечательна: «благотворное действие веры христианской на окрестное население татар».
Предприимчивый и деятельный архипастырь, кроме записки, выпустил ряд сочинений («трактатов») о крымских «святынях» и инструкций для духовенства своей епархии, представляющих собой целую политическую программу. Иннокентий учитывает этнокультурные особенности омусульманенного и отатаренного армяно-итало-греческого населения побережья и Крымских гор. Он умело ищет опору в этих так называемых тэтах, «кои, в южной части Крыма, как известно, почти все были некогда христианами и доселе не утратили совершенно памяти о прежней вере своей, выражая это повременными стечениями к местам, освященным верою христианскою». Такие-то места (например, Инкерман, Качи-Кальон) и делаются первоочередными объектами «восстановления». На них строятся наново церкви и часовни, учреждаются относительно крупные монастыри и мелкие «киновии», где селятся монахи, имеющие опыт «пещерно-жительства». В подобной обстановке становятся уже неуместными исследования, трактующие «святыни» в качестве памятников античных.
Остается ли при этом прежнее представление о южнобережных древностях как о таврских, т. е. языческих? Поначалу оно отходит на второй план, но все же продолжает развиваться — параллельно с новыми взглядами — вплоть до наших дней.
- Средневековая Таврика—еще в значительной мере terra incognita. И потому, конечно, в познаниях о ней предположительного больше, чем Твердо установленного.Но ведь есть упоминания о Крыме в русских летописях, в сочинениях арабских географов, немало писавших о Таврике, хазарах, Византии. Примем во внимание византийские периплы, генуэзские портуланы (морские компасные карты), записки средневековых купцов-мореплавателей. а также торговые, административные, дипломатические документы XIV—XV столетий. «Все это вместе взятое», говоря словами Репникова, уже позволяет построить — пока в общих чертах — картину средневековой Таврики. Отлично вписываются в нее и наши исары
Само собой, старые, «традиционные» представления необыкновенно живучи. Отчасти это объясняется существованием соответствующего археологического материала. С другой стороны, они же порой поддерживаются и характером некоторых средневековых источников: во-первых, крымских легенд, в которых почти всегда можно «откопать» первоначальное, античное ядро; во-вторых, трактатов, наивно соединяющих собственные наблюдения и домыслы их авторов со сведениями, заимствованными у древних предшественников. Таким образом, критический комментарий неизбежен.
В полной мере относится это и к такому источнику, как топонимы.
«Медведь» или «Святая»?
Говоря об Аю-Даге, нельзя обойти вниманием это название, издавна интриговавшее исследователей. Читатель, конечно, и без нас давно знает, что Аю-Даг переводится с крымскотатарского как «Медведь-гора». И все находят, что гигантский лакколит своими очертаниями напоминает именно этого зверя, как бы пьющего морскую воду.
Чтобы впервые узреть в нем представителя медвежьего племени, нужно было, конечно, обладать известной долей воображения. Впрочем, «биография» каменной громады дает и некоторые объективные основания для такого уподобления. Однако рассмотрим сначала название само по себе.
На латинском языке слово «медведь» звучит как «ursus». Не похоже ли на Урсов, Урзуф, Юрзуф, как во времена Пушкина называли Гурзуф? А последний ведь почти примыкает к Аю-Дагу — гора и местечко могли в древности называться одинаково.
В свою очередь, слово «медведь» по-гречески звучит как «арктос». Не напоминает ли это Артек — название небольшого населенного пункта, расположенного у западного подножия Аю-Дага?
Примеров подобной трансформации слов и перенесения названий с одного объекта на другой, соседний, можно привести сколько угодно.
Не будучи лингвистами, не будем вдаваться в топонимику, но все же пораскинем умом: не лежат ли в основе названия «Медведь-гора» какие-то реальные факты? Может быть, слово «Аю-Даг» является просто переводом на крымскотатарский ранее существовавшего названия этой горы? Добавим, что на одном из тюркских языков (кипчакском) слово «даг» означало еще и «лес». Следовательно, Аю-Даг когда-то могло означать «медвежий лес». Не исключено, что медведи истреблены вместе с большей частью лесов Крыма в период позднего средневековья.
- В свое время многие ученые обращали внимание на отсутствие в лесах Крыма медведей и делали вывод, что, несмотря на ряд благоприятных условий, относительно малая площадь гор и периодическое перенаселение полуострова способствовали их истреблению. Между тем еще в 1578 г. Мартин Броневский, польский посол к крымскому хану, рассказывая о фауне юго-восточного Крыма, писал: «…эта часть полуострова изобилует… многочисленными лесными зверями — оленями, сернами, медведями».Есть и другие сведения о животном мире Крыма в прошлом, которые дают основания полагать, что медведи водились в Крыму в сравнительно недалекую от нашего времени историческую эпоху. В крымских горах и пещерах уже неоднократно встречались медвежьи останки. Так, в процессе обследования карстовых полостей и шахт комплексной экспедицией АН УССР в 1960—1962 гг. собраны были костные материалы близкого к нам времени. Среди них особенно интересны находки в «шахте Медвежьей» (горный массив Басман), где были обнаружены кости нескольких эндемичных для Крыма особей бурого медведя.
Известен целый ряд крымских топонимов, связанных со словом «медведь». Так, например, в районе Ай-Петринского массива есть пещеры, называемые Аю-Тешик («медвежье ухо», в смысле — берлога) и Аю-Коба («медвежья пещера»), а в окрестностях Старого Крыма — Аю-Кая («медвежья скала»).
Таким образом, Медведь-гора, вероятно, могла в далеком прошлом иметь и непосредственную связь с каким-то медвежьим семейством. Если такое предположение верно, то названием своим обязана она не столько внешнему сходству с медведем (довольно относительному), сколько тому, что на ней действительно обитали медведи.
- Наряду с названиями местного происхождения, в топонимической «родословной» Аю-Дага встречались имена, отразившие иные исторические эпохи — греко-римскую колонизацию, нашествия кочевников. В разное время его именовали и Фрон-Ариетис, и Брисава, и Акрома, и Тамар Аю-Даг называли также Биюк-Кастелем, т. е. «большим укреплением». В одном из землеустроительных турецких документов (1686 г.), пишет Кеппен. «гора эта названа не Аюдагом, но Кастелем». На русской карте Крыма 1817 г. значится: «Аю-Даг, или Кастель». Позднесредневековые карты, на которых написано «Аю-Даг», относятся к тому периоду, когда Крымом уже давно владели турки и татары. Однако, по замечанию того же Кеппена, такое обозначение мыса на этих морских картах в достаточной степени доказывает, что оно далеко не ново.
В то же время генуэзские моряки видели в Аю-Даге не медведя, а «верблюда» (Camello). Но «Медведь» оказывается не менее старым и более живучим Так откуда же идет это слово? Нельзя ли предположить, как впервые это сделал П.И. Кеппен, что Аю-Даг — результат ложной (народной) этимологии, что вначале могло быть «Айя» («айос» — по-гречески «святой»), позднее забытое и переосмысленное в «Аю» («медведь»). Тогда, быть может, и все прочие «Аю» были в свое время «святыми»? «Святая пещера», «святая скала» и т. д.
Можно ли разрешить уже сегодня это топонимическое затруднение?
Если будет доказано, что в крымскотатарском названии Аю-Дага допустимо усматривать переделанное греко-татарское Айя-Даг — «святая гора», то не будет недостатка в аналогиях. Например, Святая гора на Карадагском массиве с ее средневековым монастырем, Святая гора на Афоне (тоже монастырский комплекс), целый ряд других «святых гор», разбросанных по Юго-Восточной Европе. Вопрос о происхождении интересующего нас топонима может проясниться лишь в процессе пристального научного исследования Аю-Дага. Решение его может оказаться двояким или, чего доброго, совсем не таким, как мы ожидаем.
От догадок к науке
Исары Таврики — укрепления большей частью мелкие. Они были сильны не столько своими стенами, сравнительно не толстыми, или башнями (их они чаще всего не имели), сколько труднодоступностью — местоположением на горных обрывистых кручах.
Остановимся на некоторых технических особенностях этих своеобразных оборонительных сооружений.
Небезынтересно отметить, что фортификационной элементарности крымских исаров соответствует чуть ли не первобытная строительная техника: стены, как правило, сложены неровно, из крупного, необработанного бута, кое-где даже насухо, без регулярной «перевязи» (перекрещивания) швов между неплотно пригнанными камнями; в качестве связующего — обычно глина, реже известь с песком. Лишь в отдельных случаях заметна добавка толченой керамики — цемянки, т. е. такой же раствор, как и в технически более совершенных римских и византийских постройках. Вдобавок сопряжение стен в наших исарах чаще всего достигнуто простым до примитивности способом — скруглением углов, гак же, как, например, в скифских оборонительных сооружениях. В иных случаях, не умея связать концы стен, поставленных под углом одна к другой, строители выходят из положения, смыкая их со скальными глыбами и придавая последним роль мощных угловых контрфорсов. И все это — вместо перевязки краеугольных камней, давным-давно разработанной древнегреческими строителями и оставшейся на века одной из основ мирового каменного зодчества.
- Для всякого, кто настроился на античный лад — пол воздействием ли поэзии Гомера и Еврипида, под обаянием ли античных мифов или вследствие слепой веры в сообщения древних авторов, а может быть, и под влиянием книжной традиции — от «Путешествия» Муравьева-Апостола до статей Сосногоровой и книги Дьякова — словом, для «античника» была почти неизбежной убежденность в том, что исары принадлежали никому иному, как только полудиким таврам античной поры. Авторы и читатель уже проследили, звено за звеном, всю цепь такого рода умозаключений и убедились в том, что они слабо аргументированы, хотя и не вовсе беспочвенны.Территориальная близость к некоторым из исаров таврских поселений, «каменных ящиков», кромлехов, менгиров, наличие на отдельных исарах такой же, как в «ящиках» лепной керамики — вот что всегда подкрепляло «таврскую концепцию» в глазах археолога, тем более, конечно если он уверовал в нее со студенческой скамьи. Кроме того, рассматривая эти укрепления, можно проводить параллели с хорошо датированной провинциальной, но не городской, а, так сказать, деревенской фортификацией позднеантичной Европы. Всюду можно найти памятники, достаточно похожие на укрепления горного и южнобережного Крыма. Нельзя не вспомнить, глядя на крымские исары, аналогичные мелкие крепости первых веков нашей эры (да и древнее), разбросанные на огромных пространствах — от Балкан и Апеннин до Скандинавии и Британских островов. Греки и римляне допускали подобные «варварские» сооружения даже у себя дома. Например, маленькая позднеантичная крепостца на горе Онеон близ Коринфа с ее примитивными каменными кладками точь-в-точь похожа на укрепления горы Кошка (Симеиз), приалуштинского Ай-Тодора или интересующего нас в данном случае Аю-Дага.
Спору пет, отдает седой древностью этот обычай — возводить на каждом шагу подобные «крепостенки», закоренело примитивными выглядят технические приемы их безвестных строителей. Архаические черты, сквозящие в облике многих крымских исаров, были верно уловлены их первоисследователями. Но аромат древности — еще не сама древность. Для объективного и вполне убедительного вывода о том, кто были хозяева исаров, когда и против кого развертывали они строительство таких укреплений, надо иметь археологически обоснованные даты каждого памятника. Не помешало бы и знание исторических обстоятельств, в силу которых подобная традиция могла в то или иное время укрепиться в Таврике.
- Не значит ли это, что внешне безупречная система доказательств таврского происхождения наших исаров построена на песке? Ведь исходит-то она исключительно из косвенных данных, причем археологические факты, привлекаемые для ее подкрепления, по-видимому, не имеют прямого отношения непосредственно к исарам. Даже если и оказываются на территории какого-либо из этих укреплений черепки таврской лепной керамики, то, как правило, до сих пор не знающее исключений, на поверку обнаруживается, что исар лишь перекрывает более ранние культурные отложения и связанные с ними строительные остатки. Теперь уже можно уверенно заявить, что вся эта логическая система является концепцией догадок, предположений, домыслов.
Археологические находки, отнюдь не античные и не таврские, которые долго собирались от случая к случаю на всех почти исарах, с течением времени накопились, стали заявлять о себе, настраивать на ревизию общепринятых взглядов: ведь весь этот материал — вопиюще средневековый! К тому же на многих исарах или непосредственно при них (в частности, при аюдагском) были обнаружены развалины средневековых церквей, часовен, плитовые могилы восточно-византийского типа. Связанные с исарами топонимы — названия их самих, окружающих средневековых поселений, ближайших урочищ, гор — носят отпечаток христианизации и несомненно даны средневековым населением Таврики.
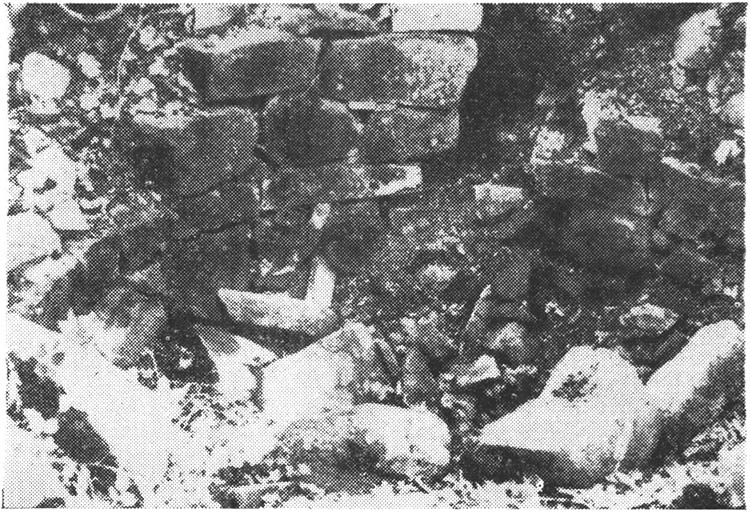
Развалины средневекового храма (восточный склон Аю-Дага)
Это-то и привлекло внимание историков отечественного православия, русских священнослужителей, производивших свои научные разработки в интересах российской церкви и самодержавия, которому церковь ревностно служила. Перед ними стояла задача локализовать в конкретных местах на крымской земле исторические данные церковных письменных источников, имеющих отношение к Крыму. Цель эта была обусловлена особыми социально-политическими обстоятельствами; о них уже говорилось, и на них мы еще не раз остановимся.
- Антирелигиозность, свойственная советскому исследователю средневековья, не должна заслонять в его глазах всепроникающую религиозность изучаемой им эпохи. Ведь именно атеизм и диктует необходимость четкого уяснения истинной роли религии и церкви в земных делах. Поэтому нельзя обходить и культовые памятники средневекового Крыма, хоть мы и знаем, сколь любезны были они сердцу каждого российского церковника.Историков-атеистов тоже занимают и названия исаров и связанные с ними легенды. Пусть в них то и дело мелькают религиозные сюжеты, пусть попадаются имена православных святых — для историка немаловажно и это, а тем более интересны встречающиеся в них же средневековые термины, например, византийская номенклатура должностных лиц Таврики. Все это не косвенные, а прямые показатели многосторонних связей средневекового Крыма с окружающими странами, свидетельства его культурного единства со всей средневековой Европой.
Мы допустили бы серьезнейший просчет, если бы позволили себе игнорировать немалую работу, проделанную — в своих классовых интересах — историками-церковниками. Да и было бы глупо проходить мимо того исторического добра, которое так широко и выгодно использовала церковь. Нельзя выбросить из арсенала науки фактические сведения, заключенные, например, в житиях «святых», в писаниях «отцов церкви». Не менее важны для исследователя и церковные лапидарные надписи — надгробные и строительные.
Попытаемся рассмотреть надпись, имеющую прямое отношение к Партениту и Аю-Дагу, — без излишней доверчивости, но и не игнорируя вложенное в нее содержание.
Надпись митрополита
В 1862 г. архиепископ Иннокентий опубликовал в «Херсонских епархиальных ведомостях» свою очередную статью «Святой Иоанн, епископ Готфийский». Пересказывая и комментируя церковное «Житие» Иоанна, Иннокентий, вслед за Палласом и Кеппеном, связывает с Аю-Дагом основанный Иоанном монастырь Апостолов, а южнобережную деревеньку Партенит отождествляет с «торжищем в Партенитах», упоминаемым в этом источнике. Иннокентий не одинок: еще в 40-х годах те же взгляды в более общей форме развивали «преосвященный» Макарий и другие его коллеги.
Сподвижники и преемники Иннокентия не упускают ни одного случая увязать церковную историю с тем или иным археологическим памятником, настойчиво «обосновывая» в печатных выступлениях свои притязания. Целью этих археологических усилий было учреждение и «устроение» в Крыму новой. Таврической епархии, а когда это совершилось — придание ей елико возможного веса и исторического авторитета. Подобные начинания поддерживали правящие социальные круги — царское правительство и Синод. Не оставались у церкви в долгу и помещики, например, те же Раевские. В их владениях неожиданно объявился один из самых выдающихся культовых памятников средневековой Таврики.
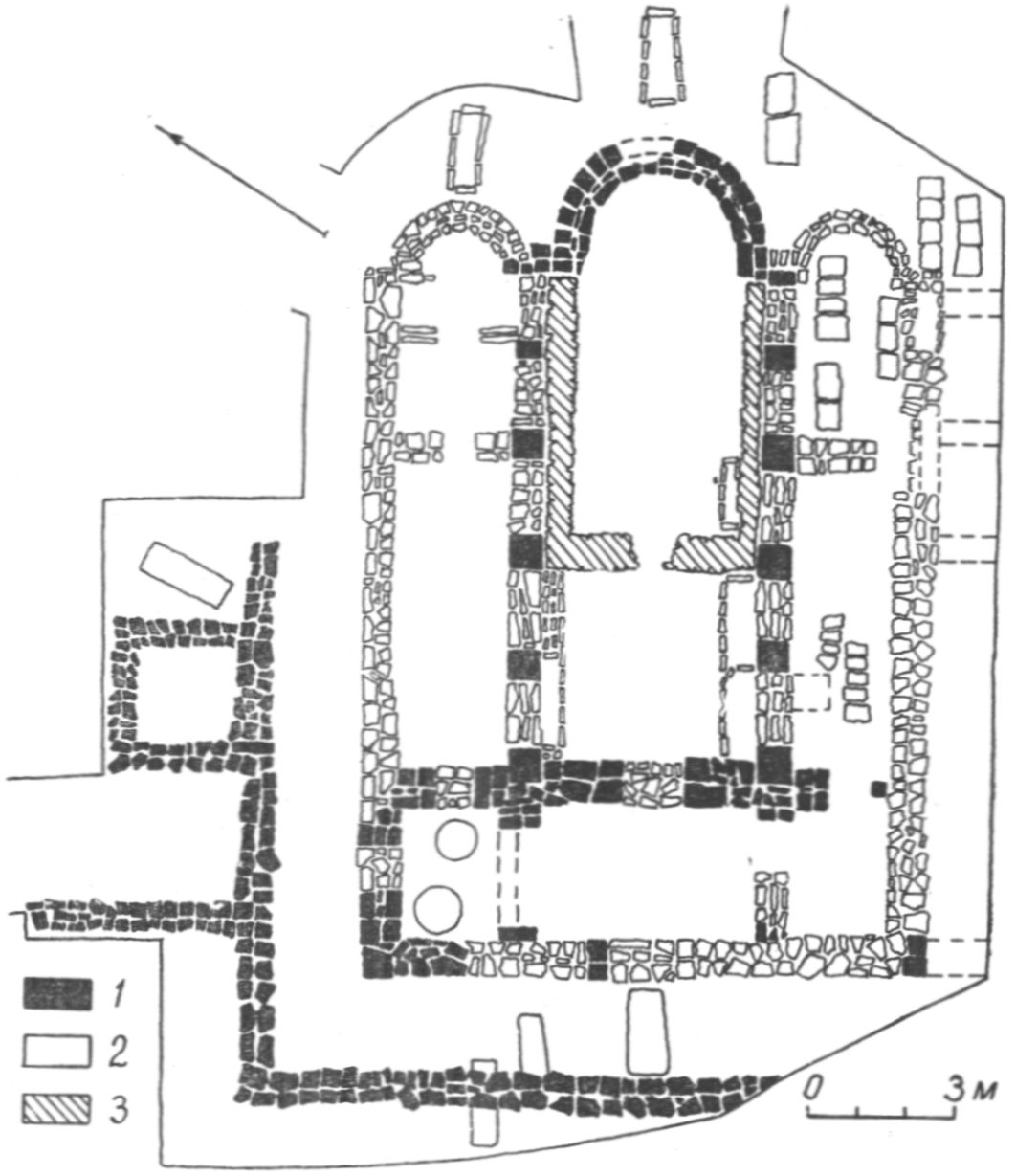
План Партенитском базилики (по Н.И. Репникову). 1 — остатки стен VIII в.; 2 — кладка XV в.; 3 — часовня XVI в., пристроенная к древней абсиде
В 1869 г. управляющий имением госпожи Раевской прокладывал дорогу по восточному склону горы, поверх древней, давно заглохшей дороги, исчезнувшей под лесной зарослью. Обнаружив при этом скрытые кустарником руины какого-то большого здания, он, не задумываясь, начал разбирать его на камень и разваливал до тех пор (вывезено было не менее 200 телег камня), пока не наткнулся на мраморную — византийской работы — резную капитель и плитовую могилу. Эти открытия всполошили любознательного «отца» Николая Клопотовича, безвестного дотоле алуштинского попика. Прославившее его древнее здание оказалось трехнефной и трехабсидной христианской базиликой.

Партенитская базилика. Дверной проем среднего нефа. (Фото Н.И. Репникова)
Тем временем Струков, признанный епархиальным начальством авторитет по части реставрации храмов, закончил благочестивые труды в юго-западном предгорье Крыма и переместился в поисках новых «святых мест» на Южный берег. Естественно, что он тут же, по горячим следам и при деятельном участии Клопотовича, предпринял обследование Партенитской базилики. Вблизи ее алтаря была найдена строительная надпись 1427 г., сразу же ставшая знаменитой. В ней названо имя основателя базилики Иоанна Исповедника, т. е. Иоанна Готского, причисленного к лику святых за подвиги, описанные в его «Житии».
- Как известно из «Жития» и других средневековых источников, епископ Иоанн был главой антихазарского восстания 787 г. После подавления этого весьма серьезного мятежа хазары предприняли в Таврике безжалостные и энергичные репрессивные меры по отношению к побежденным. Громя Южнобережье, они вряд ли пощадили резиденцию «преподобного» Иоанна — основанный им монастырь (о нем упоминает надпись). Вероятно, заодно они разорили и принадлежавшую монастырю базилику, расположенную на бойком в то время месте — у Партенитском дороги. Храм, восстановленный, как сообщает та же надпись, в начале XV в. далеким преемником Иоанна митрополитом Дамианом, был перед тем, судя по археологическим данным, разрушен еще раз — очевидно, в X в, — при обстоятельствах, о которых мы скажем особо. В памятном 1475 г. он опять пострадал — от нашествия турок-османов.Но неужели монастырь и базилика так долго — пять веков — лежали в развалинах? Нескоро дальнейшие открытия осветили этот вопрос, да поначалу он никого и не беспокоил.
Руины базилики, связанные с именем высокочтимого святого, хотя и пострадали от управляющего имением не меньше, чем от хазар и турок, остаются, с любезного согласия помещицы, стоять посреди партенитских виноградников в качестве местной религиозной святыни. Взращивал ли преосвященный Иннокентий в отношении ее какие-нибудь далеко идущие планы? Более чем вероятно. Недаром Партенитскую базилику, прибранную и прихорошенную подобающим образом, тут же поспешили «освятить», совершив на ее развалинах благодарственный молебен.
- Однако обстоятельства переменились: закончилась русско-турецкая война, и в черноморском политическом регионе наступила временная, как сказали бы теперь, разрядка напряженности. К тому же вскоре умер Иннокентий, главный деятель на ниве религиозного «просвещения» современной Таврики. Другие государственные заботы, связанные с внутренним «неустройством», т. е. революционным накалом в России, с прожорливой внешней политикой царизма в Азии и на Дальнем Востоке, одолевали теперь русское правительство. Стоившее труда и денег «восстановление древних святых мест» в Крыму перестало быть актуальным.В самом начале XX в. страна пережила полосу тяжелейшего экономического кризиса, потопленных в народной крови рабочих забастовок и восстаний, крестьянских бунтов, испытала кровавый позор русско-японской войны. Разгром революции 1905—1907 гг. вверг Россию в период оголтелой внутриполитической реакции, тогда как на внешнеполитическом горизонте уже поднимался призрак неотвратимой беды — первой мировой войны. Снова становилось напряженным положение России в Причерноморье; снова — уже в третий раз — забродили в правящих кругах бредовые идеи о захвате русским царизмом Балкан; старые мечты о «ключах Царьграда» опять не дают покоя полуфеодальной полубуржуазной царской России.
Крымский полуостров — база Черноморского флота и возможный плацдарм военных действий на Черном море и Балканах — вновь в фокусе русско-балканской политики. И снова, тоже в третий раз, приливает волна обостренного интереса к византийским древностям Крыма.
В 1905 г. на виноградных плантациях партенитского имения Раевских (потомков того самого семейства, с членами которого дружил молодой Пушкин) найдены шесть вислых свинцовых печатей VIII—XV вв. Четыре из них имели отношение к византийским должностным лицам — одно из свидетельств того, что именно здесь, в Партенитах, было средоточие деловых связей правительства Византийской империи с южнобережной Таврикой — Готией. Две другие печати (с монограммами — по византийскому образцу) могли принадлежать какому-то местному правителю или просто знатному лицу, например, мелкому феодалу.
Археологические находки в Партенитской котловине, как уже говорилось, — дело обычное. На берегах ее речек встречаются обломки средневековой керамики; часто—то здесь, то там—при рытье котлованов под фундаменты новых домов строители натыкаются на плитовые могилы, перекрытые толстым слоем грунта, на каменные кладки и сопутствующие им культурные отложения.

Вислые печати (моливдовулы), найденные близ Партенитской базилики
Так и на Тепелере. Там еще в 1907 г. Н.И. Репников заметил признаки средневековых сооружений. Фундаменты их только в 1969 г. были частично вскрыты и оказались остатками крепости.
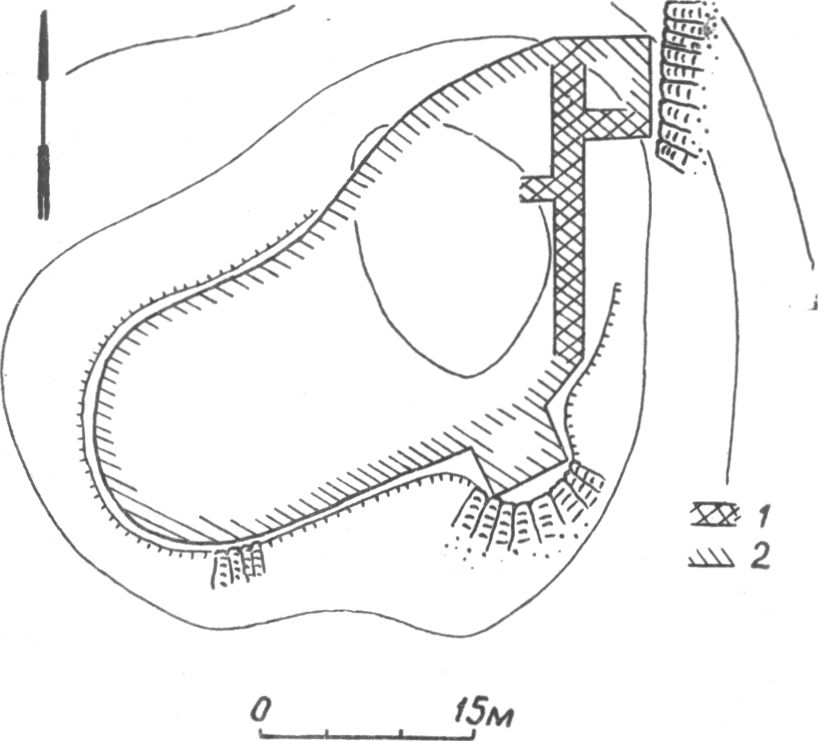
План укрепления на возвышенности Тепелер. XII—XV вв. 1 — стена, зачищенная в 1969 г.; 2—раскат оборонительной стены
В тех же девятисотых годах Н И. Репниковым была раскопана и Партенитская базилика с ее мраморными и мозаичными полами. Этот памятник, о котором мы еще не раз вспомним, получил известность далеко за пределами нашей страны.
- Тогда же, и как нельзя более кстати, выступил со своими исследованиями А.Л. Бертье-Делагард. Вольнодумный генерал и вместе с тем эрудированный, вдумчивый ученый, автор блестящих научных трудов, он «наводит порядок» в сумбурных, запутанных церковной «наукой» представлениях о крымском средневековье Не раз ставит он на свое место зарвавшихся церковников, которые извращали и даты и исторический смысл памятников, используемых церковью в качестве «святых мест».Н.И. Репников, ученик Бертье-Делагарда, посвятит себя изучению памятников «крымской Готии» — юго-западного и южнобережного Крыма. Это станет содержанием всей его дальнейшей жизни, отданной науке. В годы Советской власти он заложит своими работами в Крыму фундамент археологических исследований византийской «фемы климатов» и сменившего ее феодального княжества Феодоро. Оставит он после себя и школу археологов медиевистов, силами которых продолжается изучение средневековой Таврики.
Раскопки Н.И. Репникова в Партените и его (первые после Палласа и Кеппена) археологические разведки на Аю-Даге и в Партенитской котловине пришлись на 1905—1907 гг. Прежде чем пересказать, со слов ученого, результаты раскопок, начнем с того же, что и он: разберемся в исходных археологических данных.
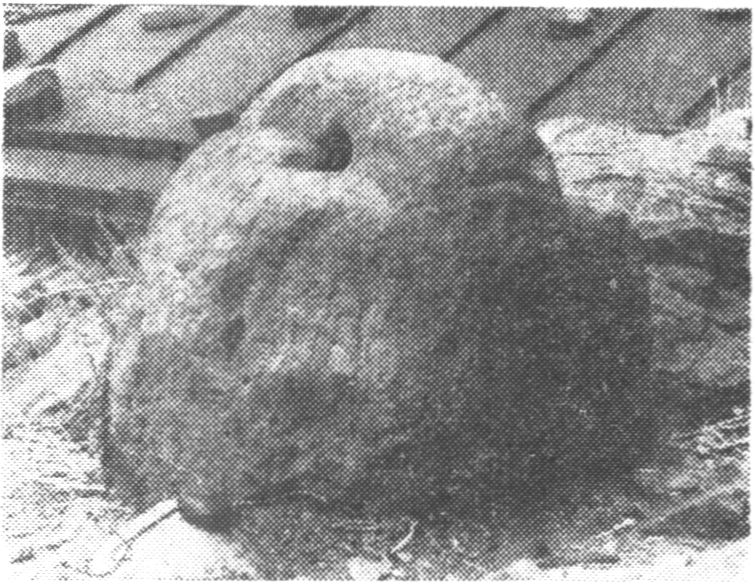
Каменный пресс средневековой давильни из Партенита
На протяжении всей первой половины прошлого века, т. е. задолго до Клопотовича и Струкова, Аю-Даг не раз давал поводы для медиевистических исследований, которые, к сожалению, долго никого не соблазняли. Никто не обращал внимания ни на средневековую керамику на склонах Медведь-горы, ни на развалины христианских церквей (их принимали то за некие «башни», то за остатки капища Девы), ни на мраморные колонны и резные капители византийской работы. Без сомнения, главной причиной тому были «классические» шоры, надетые на самих себя первоисследователями Аю-Дага. Потому-то все эти и многие другие, для нас теперь явные атрибуты средневековья, оставались незамеченными.
Перед Н.И. Репниковым подобных фактов было еще больше. Мы говорили уже о византийских монетах из окрестностей Партенита и Аю-Дага, о вислых свинцовых печатях (моливдовулах), найденных при закладке новых виноградников в имении Раевских; налицо была и большая, наполовину раскопанная базилика с многострочной, совсем целой строительной надписью, о которой сказано выше. После Струкова добавилась еще одна надпись — эпитафия на надгробной плите, выпаханной из земли на том же винограднике, где и печати.
Велеречивая и дидактически-поучительная эпитафия эта назвала два малозначительных имени — некоего «аввы» Никиты, могилу которого покрывала плита, и автора эпитафии монаха Николая — «пресвитера от Боспора».

Надгробие с эпитафией аввы Никиты (906 г.)
Датируется надпись 906 г., т. е. началом X столетия — века, в котором вся Таврика пережила немало новых и крупных военно-политических потрясений.
Базилика, почти полностью раскопанная Н.И. Репниковым, первоначально представляла собой перекрытый сводами храм с нартексом. Длина здания вместе с абсидой, включая ширину стен, чуть более 17 м; ширина храма по внешнему контуру — около 12 м. С трех сторон базилику окружала галерея шириной около 1,8 м (судя по толщине ее стен — крытая) с какими-то примыкавшими к ней помещениями, сообщавшимися с этой галереей. В нефах, нартексе и галерее сохранились пестрые мозаичные (вернее наборные) полы из разных по величине плиток: красных и желтых керамических, зеленовато-бурых песчаниковых, голубовато — серых мраморных и мелких ярко-белых кусков полевого шпата.
Базилика носит следы довольно ранних внутренних переделок, настолько значительных, что их могло вызвать лишь разрушение. Оно-то, видимо, и закончило первый этап существования храма (в VIII в.). Н.И. Репников отмечает затем признаки пожара и второго разрушения, приходящегося на X в. Здание надолго было заброшено: в грунте, перекрывшем слой гари, не нашлось никаких вещей или монет ранее XIV в. Это значит, что восстановление базилики — а его признаки тоже отчетливо видны — может быть отнесено к тому времени, о котором говорит строительная надпись 1427 г., т. е. к началу XV в. При вторичном возобновлении храма восстанавливается не все и не так, как было вначале: использованы фундаменты и основания стен лишь средней части базилики, а боковые нефы и галерея превращены в хозяйственные и жилые помещения.

Партенитская базилика. Мозаичный пол в галерее
В этом виде храм простоял недолго, был еще раз сожжен и разрушен. Через некоторое время на его развалинах и из его же камня сооружается небольшая, убогая часовня с деревянной кровлей. Она, в свою очередь, была заброшена и постепенно развалилась. Поскольку между слоем гари от второго пожарища и развалинами часовни нет археологических материалов ранее XV в., а преобладают керамика и монеты XVI—XVIII вв., можно заключить, что второе разорение храма произошло в 1475 г., при захвате Южнобережья турками. Часовня могла быть выстроена руками местных жителей позднее, уже при новой, турецкой администрации. Место считалось святым, а церковь Таврики — Готская епархия — пользовалась льготами и покровительством со стороны «иноверных» властей Крыма. Окончательно партенитская «святыня» пришла в упадок в конце XVIII в., после выселения из Крыма так называемых крымских греков — потомков тех православных христиан, руками которых Иоанн Готский и его преемники строили и возобновляли монастырь Апостолов в Партенитах.

Мозаичные полы Партенитской базилики
Обе надписи, найденные при исследовании Партенитской базилики, настолько важны как исторические документы, что их стоит рассмотреть. Первую — надпись 1427 г., как наиболее содержательную, приводим целиком:
«Этот всечестный и божественный храм святых, славных и Первоверховных апостолов Петра и Павла был построен с основания в давние времена иже во святых отцом нашим архиепископом города Феодоро и всей Готии Иоанном Исповедником, ныне же возобновлен, как он зрится, митрополитом города Феодоро и всей Готии кир Дамианом в лето 6936 индикта 6-го, в десятый день сентября» (т. е., в переводе на наше летосчисление, в 1427 г.).

Хозяйственное помещение с пифосами VIII—X вв., пристроенное к галерее базилики
Источник этот интересен не только важными фактами, которые он сообщает, но и самой своей фразеологией, той интонацией, которая заставляет «читать между строк», позволяет уловить в надписи отголосок какой-то не то дискуссии, не то распри. Кого и в чем должна убедить эта надпись? И почему в нее вкрались фактические ошибки?
Во-первых, Иоанн был епископом, а не архиепископом, во-вторых, он не мог быть пастырем Феодоро — города, который вряд ли существовал при нем независимо от Херсона и, следовательно, входил в Херсонскую епархию. Даже если Дамиан принял во внимание то же, что предполагаем и мы, — что Феодоро XV в. суть Дорос «Жития» Иоанна (VIII в.), то и тогда в надписи это все равно остается натяжкой. Хотя нас, разумеется, радует это косвенное подтверждение предполагаемой локализации Дороса на месте Феодоро — Мангупа.

Партенитская базилика. Кладка абсиды центрального нефа
Обратим внимание на стилистику текста, на избыток прилагательных, совсем не характерный для других известных в Крыму лапидарных надписей того же времени. Чему служит это четырехкратное восхваление апостолов Петра и Павла с напором на их «первоверховенство»? Отметим и подчеркнутое указание надписи на «давние времена» основания партенитского храма, на двукратное упоминание «всей Готии», по отношению к Иоанну явно неоправданное, так как управлял он епархией, ограниченной скорее всего полосой Южнобережья. И еще деталь: Дамиан не епископ или архиепископ, он — чином куда повыше Иоанна — митрополит; очевидно, к его времени бывшая Готская епархия сделалась митрополией и, стало быть, сильно разрослась. Вероятно, она охватила большую территорию по обе стороны Главной гряды Крымских гор, а потому и стала «всей Готией».
Всмотримся в переменчивую обстановку тех шестисот сорока лет, что протекли от восстания Иоанна и разрушения Партенитской базилики до восстановления ее Дамианом. Вслед за разгромом восстания наступил несомненный упадок монастыря Апостолов: он перестал быть резиденцией епископа, им управляет некий нетитулованный инок Никита, всего лишь авва — избранный братией настоятель.
Иоанн, изгнанный из Таврики после разгрома восстания и умерший в далекой заморской Амастриде, погребен в конце концов, если верить «Житию», в Партенитах в основанном им монастыре, куда его останки переправились якобы чудом. Когда именно произошло это перезахоронение и состоялось ли оно в действительности, мы не знаем. Найденная в аркосолии храма тщательно замурованная гробница, которую допустимо связать (судя по ее особому, почетному местоположению) с погребением «преподобного», вскрыта Н.И. Репниковым в присутствии А.Л. Бертье-Делагарда и оказалась… пустой, своего рода кенотафом.
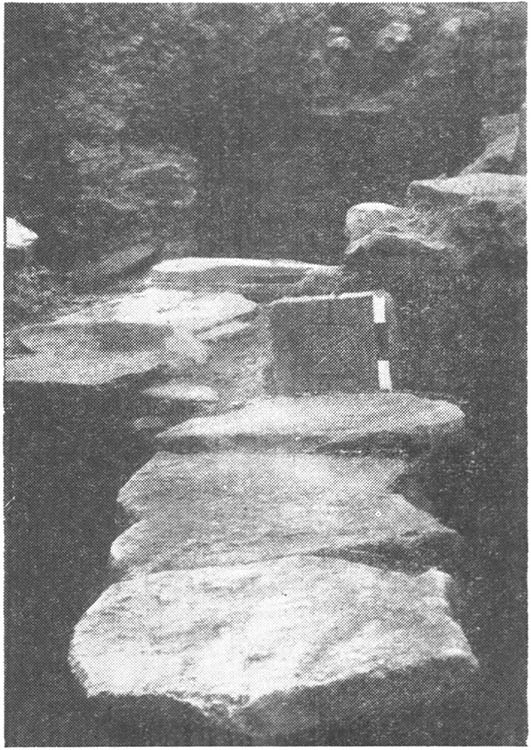 Плитовая могила VIII в. в южном нефе базилики
Плитовая могила VIII в. в южном нефе базилики
Отметим также, что в первых годах X в. Иоанн, по-видимому, еще не был объявлен святым и есть основания сомневаться в том, что останки его «переправлялись» в Партениты. Будь то иначе, эпитафия аввы Никиты не обошлась бы без упоминания Иоанна, одним из преемников которого на игуменстве стал этот Никита. Более того: безмолвие эпитафии аввы относительно вождя проигранного восстания (проигранного, кстати сказать, из-за предательства архипастыря) можно объяснить лишь тем, что личность Иоанна Готского могла встречать в Таврике двойственное отношение. Хотя через сто с лишним лет после разгрома восстания уже не оставалось в живых его участников и современников, воочию знавших «преподобного», свидетельства их были еще слишком свежи. Они не успели приобрести форму благочестивых местных преданий, преисполненных пиетета перед маркой «святого». Пресловутый В.Х. Кондараки передает (как всегда, «литературно» обслюнявив) одну из легенд аюдагского цикла — о нечестивой вдове, превращенной в камень за то, что посмела ударить преподобного, обвинив его в несчастье, случившемся с ее семейством.
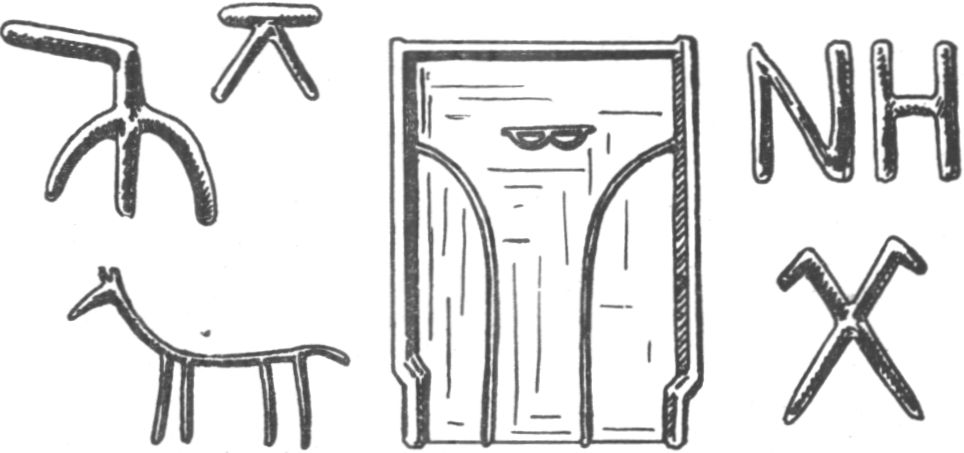
Средневековая черепица — керамида и черепичные клейма из Партенита
Вернемся, однако, к монастырю Апостолов. Судя по всему, в частности состоянию его базилики, он снова был разрушен в конце X в. Мы склонны связать это событие с теми бедствиями, о которых невнятно, хотя и красочно повествует «Записка готского топарха». Поясним: этот знаменитый и спорный письменный источник многие исследователи (и мы вслед за ними) связывают с Крымом. Одни из них видят в разорителях Таврики хазар, побитых Святославом и мстящих Византии за изменнический союз с их грозным победителем; другие считают, что на Таврику напали печенеги и относят тем самым «Записку» к моменту борьбы этих племен с Византией и Русью — при императоре Василии II и великом князе Владимире Святославиче. Так или иначе, Партенитская базилика после второго разорения долго остается в руинах, а монастырь, хотя и существует, живет незаметно, почти 400 лет пребывая в политическом забвении.
- Между тем жизнь и политика идут своим чередом. К середине XIV в. турки захватывают Балканы, их султан устанавливает свой трон в Константинополе, переименованном в Стамбул. На обломках Византийской империи создается империя османов… Хиреет в Крыму Херсонес. Некогда подчиненная Константинополю Херсонская фема сначала становится трапезундской «фемой климатов», охватывавшей большую часть южной Таврики. Видимо, входит в нее и Поморье — южное побережье полуострова. После окончательного разгрома Византии фема превращается в небольшое, но относительно самостоятельное феодальное государство. В XV в. правитель его начинает именовать себя «владетелем Феодоро и Поморья» и возводится, силой обстоятельств, на более высокую ступень: по русским источникам он в ранге князя, татары наделяют его титулом «Большого бея» (Олу- или Улу-бей); наконец, и в генуэзской переписке его величают как государя.При владетеле Феодоро в самом его стольном городе или совсем рядом с ним учреждается резиденция митрополита «всей Готии». Но Поморье, как известно, в XIV—XV вв. становится владением спорным: на него претендуют генуэзцы, непрерывно расширяющие подвластную им территорию.
В начале XV в., незадолго до восстановления Дамианом базилики в Партенитах, Генуя отнимает у Феодоро портовый город и крепость Чембало. Через три года после того, как базилика возобновлена, разыгрывается новый вооруженный конфликт из-за той же крепости. Генуэзцы разоряют укрепления побережья с целью навсегда утвердить здесь свое господство. И все же, несмотря на военное поражение, феодориты не прекращают борьбу.
Не происходит ли на Южном берегу Крыма почти то же самое, что и спустя полтысячелетия — в XIX в., да притом и со сходной целью? «Восстановление древних святых мест» могло понадобиться и в начале XV в. в определенных политических видах — для идейно-религиозного, освященного церковью утверждения прав Феодоро на «всю Готию», включая Поморье.
Притягательным, как магнит, необходимым, как воздух, было для князя-феодорита это Поморье с его торговыми морскими гаванями и приморскими крепостями, с единоверным населением. Опорой княжеской власти могли стать на нем укрепленные православные монастыри и храмы, основанные архипастырями Готии. Не целесообразно ли было напомнить о православном прошлом Поморья и своим и чужим, ведя борьбу с иноземцами — католиками, насаждавшими в Таврике униатство по мере своих территориальных захватов? Каждое «святое место» можно было сделать — идейно и физически — укреплением, направленным против генуэзцев.
Не был ли митрополит Дамиан для Таврики XV в. такой же церковно-политической фигурой, как для Тавриды XIX в. архиепископ Иннокентий? Тогда и крымские исары можно оценить не как плоды «страха и бессилия», а как систему обороны «всей Готии» против всяческой, в том числе генуэзской, агрессии. Не тогда ли был вновь превращен Аю-Даг в защищенную стенами крепость? И не вмешательство ли митрополита прославило эту гору — оплот православия — в качестве «святой горы»?..
Епископ Иоанн, авторитет которого используется в партенитской надписи, причислен к «лику святых», как полагают специалисты, в X в., когда составлено было и его полулегендарное «Житие». Не было потом недостатка в многократном, различном по целям и духу комментировании этого источника. В наше время для одних исследователей Иоанн — прежде всего деятель воинствующей православной церкви, для других — народный герой с якобы незапятнанной репутацией, для третьих — активный борец то ли за феодально-теократическую идею, то ли против нее, — оценка деятельности Иоанна определяется тем или иным пониманием характера и цели возглавленного им восстания.

Партенитская базилика. Мраморные архитектурные детали
Почему, так ярко вспыхнув, так широко разгоревшись, восстание вдруг погасло? Почему поражение последовало за явной и неоспоримой удачей? Поскольку очагом восстания был монастырь святых Апостолов, связанный с Аю-Дагом, попробуем — в меру наших возможностей — разобраться в пресловутом «Житии» и пристальнее всмотреться в иконописный лик партенитского «святого». Попытаемся увидеть без нимба подлинное лицо этого энергичного и, как видно, незаурядного политического и военного деятеля.
Как отпадает шелуха
С легкой руки благочестивых историков церкви, в своих целях и по-своему комментировавших «Житие» Иоанна Готского, положительная оценка его личности как подвижника и мученика красной нитью прошла сквозь все исследования конца XIX — начала XX в., посвященные крымскому средневековью. В наше время историческая оценка восстания 787 г. и истинной роли его руководителя неоднократно изменялась.
Первым, но, к сожалению, не совсем удачным примером социологизированной трактовки событий 787 г. может послужить работа В.П. Бабенчикова «Из истории Крымской «Готии». В этой статье впервые поставлен вопрос о социальной обусловленности восстания. Однако, касаясь личности епископа, В.П. Бабенчиков представляет его чуть ли не народным героем, а сами события 787 г. рассматривает как проявление классовой борьбы социальных низов Таврики против захватчиков-хазар — носителей феодального гнета. Таким образом, у него антифеодальное восстание народа возглавляет один из видных князей церкви, а церковь — феодал над феодалами — причисляет его за это к лику святых. Такая же трактовка восстания 787 г. проникла в работы некоторых других исследователей средневекового Крыма.
К началу 60-х годов были накоплены факты, косвенно позволившие по-новому взглянуть на «Житие» Иоанна Готского. М.М. Артамонов, видный советский исследователь истории Хазарского каганата, уже ставит под сомнение не только «святость», но и политическую роль Иоанна как народного вождя. Однако, будучи занят в своей книге иными вопросами, он, по существу, не пытается яснее выявить его подлинную роль в поднятии, а затем ликвидации восстания.
- Чтобы всесторонне подойти к анализу событий, изложенных в «Житии», рассмотрим, как могли складываться взаимоотношения населения различных районов Таврики с Византией и хазарами. На основании ряда источников — «Жития» Иоанна Готского, «Житий» апостола Андрея и Феодора Студита, истории Юстиниана II, ряда более поздних документальных и литературных свидетельств — можно заключить, что Готией, как уже говорилось, называли не только Южнобережье, но и весь горный Крым, в том числе юго-западное предгорье. Однако правильно представить себе социально-экономическую и политическую структуру Готии второй половины VIII в. на основании немногочисленных более поздних и сплошь церковных письменных источников вряд ли возможно. Археологические исследования, как они ни ограничены специфическим характером самого их материала, несколько восполняют этот пробел.
Известно, что с VIII в. (примерно со второй половины) на полуостров стали переселяться из восточных областей Византии иконопочитатели, гонимые ее иконоборческим правительством. С их деятельностью, вероятнее всего, связано появление в Таврике большого числа более или менее укрепленных монастырей, вокруг которых группируются синхронные им поселения. Если в середине VI в. на южном побережье были известны лишь два приморских византийских укрепления (Алустон и в Горзувитах), то в VIII—IX вв. в этом же районе появилось два торжища, семь укрепленных монастырей и более полусотни открытых сельских поселений.
Одновременно изменился и этнический состав населения этого района. Об этом свидетельствует появление на побережье ранее тут неизвестных погребальных сооружений: на смену подбойным могилам и склепам типа Суук-Су, характерным для всей Таврики VI—VIII вв. и связанным, по всей вероятности, с гото-аланами, в VIII—IX вв. появляются плитовые могилы и грунтовые погребения.
Появление плитовых могил в Поморье можно связать с притоком эмигрантов из малоазийских провинций Византии. В Малой Азии этот тип погребальных сооружений был широко распространен и существовал непрерывно с античного времени.
Эмигранты-иконопочитатели укрепились прежде всего на южном и юго-восточном побережье. Епископ Готской епархии Иоанн — пламенный иконопочитатель — основал свой монастырь в Партенитах, и этот факт говорит о том, что административный центр епархии сперва находился, скорее всего, именно там. Расширение пределов и перемещение центра ее к северу от Главной гряды Крымских гор могло наступить лишь позднее 787 г., т. е. после провала антихазарского восстания и разрушения монастыря в Партенитах.
Ослабление позиций империи в Таврике в середине VIII в., очевидно, было использовано Хазарским каганатом, который к тому времени достаточно прочно укрепился в восточном районе полуострова, в предгорьях и Херсонесе. Некоторая медлительность и поначалу своего рода «деликатность» хазар в Таврике. вероятно диктовались военно-политическим сближением их и Византии перед лицом общего врага — арабов. А когда политическое положение Византии резко ухудшилось, ничто не мешало хазарам округлить свои владения за счет той части Таврики, которая раньше тяготела, а частично была и подчинена Византии.
Представим себе состояние Таврики времени епископа Иоанна. Резко ухудшается положение крестьянства, попадавшего в VIII в. под двойной гнет — местных феодалов и пришлой хазарской знати; одновременно идет вытеснение полуаборигенов из лучших для земледелия районов в пользу новых пришельцев.
К 787 г. антихазарское выступление уже, что называется, назрело.
Ко второй половине VIII в. можно отнести следы пожаров и разрушений на большинстве византийских поселений Южного берега. Толчком же к восстанию послужил захват хазарами крепости Дорос, захват, ознаменовавший, по-видимому, окончательное подчинение Таврики хазарской администрации.
Что дает для уяснения исторического смысла событий, характера их главного героя «Житие» епископа, который и был этим «героем»?
От «Жития», составленного по стереотипной агиографической схеме, сохранилось десять небольших отрывков. Первые четыре рассказывают о происхождении Иоанна, о «посвящении богу», раскрывают политическую обстановку, в которой потом протекала его архипастырская деятельность.
Отрывки третий и четвертый сообщают об антиико-ноборческой деятельности Иоанна, его активном участии в подготовке седьмого Вселенского собора (787), восстановившего иконопочитание.
В следующем отрывке сказано, что после перехода прежнего епископа в лагерь иконоборцев иконопочитатели Таврики избрали своим духовным пастырем Иоанна, который был рукоположен на епископство не в иконоборческом Константинополе, а в иконопочитательской Иверии (Грузии). В.Г. Васильевский относит это событие к 758—759 гг.
Пятый отрывок не связан непосредственно с предыдущими, что позволяет предполагать утерю значительной и, быть может, в историческом отношении важной части «Жития». Отрывок начинается рассказом о начале восстания, первых победах повстанцев, внезапном, кажущемся беспричинным подавлении восстания и сдаче его зачинщиков хазарским властям. Составитель жизнеописания Иоанна сделал основной упор на его борьбу против иконоборцев, т. е. на чисто церковные заслуги.
О целях восстания «Житие» сообщает следующее: «…Иоанн вместе со своим народом выдан был властителям хазарским, потому что он вошел в соглашение с господином Готии и его властями и всем его народом, чтобы не владели страной их вышеуказанные хазары. Ибо хакан, пославши, занял крепость их, называемую Дорос, и поставил в ней вооруженных стражей…».
Из пятого отрывка можно почерпнуть многое. Например, становится ясно, что «господин Готии» (видимо, он же и владетель Дороса) был недоволен политикой хазар и их присутствием на его земле, тяготился подчинением хазарскому хакану, в силу чего и примкнул к заговору. Источник свидетельствует о том, что восстание началось на церковных землях, подвластных Иоанну, скорее всего на Южном берегу. Автор «Жития» определенно мыслит о двух политически автономных районах Готии: у него, с одной стороны, Иоанн «со своим народом», с другой — господин Готии «с его властями и всем его народом».
Автор «Жития» крайне лаконичен в характеристике социально-политического лица и человеческой личности «преподобного». Тем не менее некоторые обмолвки (да и умолчания) позволяют усомниться прежде всего в том, что Иоанн был произведен в святые за борьбу с захватчиками-хазарами на стороне угнетенного ими народа. Его участие в восстании определялось скорее всего узкоцерковными интересами.
- Обратим внимание на хронологическое совпадение седьмого Вселенского собора и восстания в Таврике. Нет ли политической связи между этими событиями? Возглавив вместе со своими «учениками» антихазарское выступление народа Готии, Иоанн мог продемонстрировать перед лицом Собора единство и силу иконопочитательской Таврики. В то же время трудно поверить, чтобы опытный церковно-политический деятель пошел на заведомую авантюру, выступив один на один против столь сильного противника, как Хазарский каганат. Очевидно, епископ имел за спиной какую-то опору. Возможно, он надеялся на поддержку регентши Ирины, которая опиралась на иконопочитателей. Как известно из источника, Иоанн незадолго до восстания встречался и консультировался с ней.Поднятое Иоанном восстание необычайно осложняло и без того напряженные хазаро-византийские отношения. Как прямое вмешательство, так и невмешательство Византии в дела номинально византийской, но на деле присвоенной хазарами Таврики объективно должно было привести к разрыву шаткого хазаро-византийского военного союза, в котором нуждалось правительство Византии. Подчеркнем: правительство иконоборческое, враждебное партии Иоанна; интересам же этой партии, т. е. феодалов Таврики, в том числе (и особенно) церковных, видимо, соответствовало в тот момент всемерное ухудшение византийско-хазарских отношений.
Народу Готии предназначалась роль своего рода клина между иконоборческим правительством и хазарами. Однако весьма удачная попытка Иоанна вбить этот клин сразу же потеряла практический смысл, как только на Вселенском соборе одержали верх иконопочитатели.
Тогда-то Иоанн, по-видимому, не задумываясь, предал восстание, предал, несмотря на то, что повстанцы добились несомненного успеха: от хазар была освобождена уже немалая часть территории Готии, удалось овладеть клисурами — ключевыми стратегическими позициями на горных перевалах и самим Доросом. Это, конечно, повышало цену предательства и делало Иоанна вдвойне героем — в глазах церковных и светских властей иконопочитательской Византии. Епископ Готии не мог продолжать дело, которое вредило бы этой новой Византии, отныне его интересы и действия неминуемо должны были измениться в соответствии с государственными интересами империи, которая, став иконопочитательской, по-прежнему нуждалась в военном союзе с хазарами.
В девятом отрывке «Жития» говорится, что «один человек укорял преподобного как виноватого в том, что крепость Готии предана была хакану и при этом некоторые невинно умерли». Иными словами, автор «Жития» проговорился и прямо свидетельствует, что участники восстания не верили в безгрешность своего бывшего руководителя.
Если же представить себе ход дела таким, каким стремится показать его «Житие», то странной выглядит развязка этих драматических событий: «рабов ни в чем не повинных» по приказу хакана казнили, в то время как инициаторы и вдохновители восстания — Иоанн и его ближайшие соратники — уцелели. Господин Готии вообще не подвергся никакому наказанию, а Иоанн был ненадолго посажен в крепость Фуллы (не от своего ли народа его спрятали?), и вскоре ему была предоставлена возможность убежать в Амастриду. Это двусмысленное место «Жития» неизбежно наводит на догадку, что побег Иоанна из хазарской крепости состоялся не без ведома самих хазар. Таким образом, «житие святого», если разобраться, представляет его в достаточно неприглядном виде.
- Восстание было подавлено жестоко. Догадаться об этом позволяют некоторые фразы в пятом, седьмом и девятом отрывках источника. Многих участников восстания казнили, были жертвы и при вторичном захвате хазарами Дороса. Подчеркнем, ибо это очень существенно, что пострадали только представители низших слоев населения; местная знать, подчинившаяся хазарам и служившая союзнику их — Византии, в сущности, не была затронута репрессиями.Поражение антихазарского восстания и разорение Таврики пагубно сказывалось на ее благосостоянии еще в IX в. Только Южный берег, наименее разоренный хазарами, относительно быстро восстановил свою экономику. Немалую роль в этом, вероятно, сыграло влияние морской торговли: в VIII—IX вв. уже начали формироваться новые экономические центры на юге и юго-востоке Крымского полуострова, где наметился в то время определенный хозяйственный и культурный подъем.
Антихазарское восстание Иоанна Готского явилось одним из событий, ознаменовавших переломный период истории раннесредневековой Таврики. Последующие столетия характеризуются интенсивным развитием на ее территории феодальных отношений. Свидетельство тому — остатки исаров (кастров, кастелов), т. е. сельских укрепленных убежищ и феодальных замков «господ Готии». Наиболее выдающимся среди них по праву считают Мангуп — предполагаемый Дорос «Жития», он же Феодоро надписей XIV—XV столетий.
Не менее важен для нас и комплекс археологических памятников Аю-Дага, непосредственно связанный с Иоанном Готским и теми историческими событиями, которые мы изучаем по его «Житию». При всем интересе к Аю-Дагу как памятнику одного из самых бурных периодов крымского средневековья еще интереснее для историка дальнейшая его судьба — вплоть до того момента, когда митрополит Дамиан вспомнил о заглохшем монастыре Апостолов и опять его возвысил. Не он ли, спросим снова, наградил уже полунеобитаемый Аю-Даг репутацией «святости»?..
- Следя за анализом «Жития» Иоанна Готского, читатель, очевидно, убедился в том, как много дают для истории скуповатые, казалось бы, строки литературного памятника, имеющего в данном случае самое близкое отношение к Партениту и Аю-Дагу. «Житие» — исторический источник, несмотря на все благочестивые религиозные вымыслы, которые в нем преобладают. Но подчеркнем и другое — сколь многое порой скрывают такие источники, проникнутые определенной тенденцией, и как нелегко добираться через них до сути событий, представленных в ложном свете.За какое ни возьмись из социальных явлений, деяний исторических личностей, связанных с ними памятников средневековья, они предстают в источниках, подобных «Житию», по крайней мере религиозно окрашенными, а то и облеченными в многослойную пелену «благочестивых» церковных преданий. Как правило, в каждом случае нужен немалый и кропотливый труд, чтобы распутать вымыслы, освободить от религиозной шелухи зерно исторической истины. Труд не напрасный, ибо памятники церковной археологии, которыми изобилует Крым, в умелых руках могут стать эффективным орудием антирелигиозной пропаганды, средством атеистического воспитания.
Развенчание церковной псевдоистории — не единственная проблема, стоящая перед исследователем.
Если говорить о древностях крымского Южнобережья, не меньше времени и труда требует от историка и археолога отделение подлинных фактов, стоящих за многими памятниками, от ложноклассических представлений. Возьмем, к примеру, ту же «таврскую концепцию». Отсутствие религиозной примеси, литературная традиция, логичность построения, ссылки на письменные источники и археологические памятники — все это придало ей наукообразие, которое не так-то легко преодолеть. Яркий пример того, что психологи называют влиянием предшествовавших представлений, — современные рецидивы истолкования исаров как памятников античного времени. К этому мы поневоле должны вернуться в следующем разделе.
Idem per idem
В конце 30-х годов нашего века представления об Аю-Даге и его археологических памятниках стали совсем противоречивыми, чтобы не сказать сбивчивыми. Кого в том повинить, как не ученых? От них все идет в подобных случаях.
Авторитет науки в нашей стране так велик, что им невольно наделяется всякий, кто к ней хоть как-то причастен. А уж если напишет что-то ученый или промелькнет в прессе что-либо по части археологических открытий — все это свято в глазах нашего многочитающего современника. Но ежели, не дай бог, деятели науки в чем-либо не сойдутся и пойдет у них разноголосица — разочарованию нет предела, и авторитета как не бывало.
Фрагменты архитектурных деталей
«Какая же это наука?» — скажет читатель, пожимая плечами. Не поверит он, не хочет он верить, что в настоящей, реально существующей науке постоянно появляются противоречия, а они-то как раз и приводят ее в движение. Кроме того, ученым свойственны ошибки, почему и встречаются разнообразнейшие погрешности в науке, как и в каждом человеческом деле. В муках рождает она свои теории, притом иногда недоношенные: ведь бывает (когда недостает фактов), что иные соблазнительные предположения одною лишь силой чьего-то авторитета незаметно возводятся в ранг чуть ли не постулатов. И мы видим тогда, оглянувшись назад, как научная мысль перетекает из тесного русла фактов на разливной простор каких угодно домыслов, порою навязанных привходящими обстоятельствами.
- Все обстоятельства историографии довоенных лет складывались таким образом, что в ней некоторое время не оставалось места для вполне объективного исследования истории религии и церкви, анализа конкретных и локальных проявлений их исторической роли. Антисоветская деятельность русской церкви в 20-х годах, ее политический раскол и скрытовраждебная позиция церковного руководства по отношению к социалистическому государству — все это не могло не придать особую окраску отношению советской науки к религиозно-церковному вопросу.У каждого времени своя тенденция. Двадцатые и тридцатые годы в этом отношении не составили исключения: отношение науки к религии и церкви было тогда резко, прямолинейно отрицательным и иным в тех условиях быть не могло.
Сказалось это и на крымской медиевистике. По опубликованным трудам видно, что гипотеза о средневековом происхождении южнобережных исаров (в том числе и аюдагского укрепления) в те годы как-то замалчивалась, хотя никто ее и не отрицал. Нетрудно понять, почему так было. Не ко времени была медиевистика, и научная молодежь неохотно дотрагивалась до пропахнувшего ладаном крымского средневековья.
Классическое направление в археологии опять стало ведущим, в размышлениях и настроениях ученых снова возобладали античные реминисценции. И тот, чье воображение на студенческой скамье пленили героические образы античности, став зрелым исследователем, навсегда сохранил юношеское стремление разглядеть в древних источниках не только то, о чем они говорят, но и то, что за ними скрыто. Вот почему и как возникли романтические представления о свободолюбивых аборигенах Крыма — таврах, упорно боровшихся с нахальными пришельцами — греками, стойко сопротивлявшихся римским «оккупантам». Представления эти не столько обоснованы научными фактами, сколько навеяны были общим духом времени. Напомним: назревала война с германским фашизмом, и каждый тогда ощущал ее неотвратимость.
Работа В.Н. Дьякова (мы ее уже называли), разумеется, и сейчас во многом полезная, в 40-х годах все еще воспринималась как последнее, самое яркое слово о древностях Южнобережья. И казалось, для увенчания дела нужна лишь археологическая детализация вопроса о поздних таврах, уже как бы решенного в общеисторическом плане.
Перед археологами встал и такой вопрос — побочный, но существенный: кто были тавро-скифы, упоминаемые рядом позднеантичных авторов, начиная с Плутарха? Скифы ли это, расселившиеся у подножия крымского Тавра? Или это потомки смешавшихся между собой скифов и тавров? Вопрос этот — позволим себе снова чуть-чуть уклониться в сторону — и сейчас не решен. Недаром совсем уже в наши дни привлек он снова внимание ученых — В.Ф. Гайдукевича, П.Н. Шульца и других.
Великая Отечественная война на некоторое время отодвинула многие — заодно и археологические — проблемы. Однако в 1945 г., ранней весной, ученые уже начали перековывать мечи на орала. В апреле, когда контуры близкой победы стали явственно обозначаться, правительство СССР освободило от военной страды целую армию ученых: на них ложились тяготы напряженного, но уже мирного труда. Возвратились к своим проблемам и археологи.
- Павел Николаевич Шульц — после госпиталя «нестроевой» — работал в Москве, в ГМИИ. Холодным и пасмурным утром в нетопленном четыре года и насквозь пропыленном музее нашел своего учителя другой «нестроевик» — один из пишущих эту книгу. Ему и предоставляется слово, ибо все, что произошло потом, имело прямое отношение к разработке таврской проблемы.— Вы еще не сняли погоны? — обнимая ученика, воскликнул Шульц своим по-прежнему звонким и чистым голосом, как-то не вязавшимся с новым его обликом — густой рыжей бородой (раньше ее не было и в помине), унаследованными от фронта гимнастеркой и кирзовыми сапогами, ватником, выданным администрацией музея.
Стоял апрель сорок пятого, и каждый из нас обладал пока только теми материальными благами, какие уделил ему каптенармус последней воинской части.
— Рассчитываю на вас, — с первого же слова заявил Шульц, точно продолжая разговор, неожиданно и горько прервавшийся в одно солнечное ленинградское утро.
— В июле едем в Крым. На раскопки, — повторил он на прощанье после обмена адресами. Вот и тогда, в сорок первом, такая же самая поездка намечалась тоже на июль…
Итак, загадочные тавро-скифы (или, по другой, тоже древней версии — скифо-тавры) снова на повестке дня. Вчерашние фронтовики теперь — Тавро-скифская археологическая экспедиция Академии наук СССР. «Товаро-скифская экспедиция» — начертал мелом некий представитель службы движения на нашем обшарпанном «телячьем» вагоне. В нем, обтянув замызганные дощатые стены свежей пахучей рогожей, загрузившись продовольственными пайками на все лето, едем и мы сами. Едем во главе со «старшим экспедитором», как всю дорогу, нам на потеху, величают П.Н. Шульца и железнодорожники и пассажиры длиннющего и несуразнейшего «пятьсотвеселого» поезда.
Мы следуем в Крым примерно по маршруту «матушки» Екатерины и ненамного быстрей, чем она. Восстановлена лишь одна колея пути. Поезд либо простаивает часами — даже днями — в каком-нибудь тупике, либо делает неожиданные рывки вперед. Свежие следы войны, трагические пепелища дотла разрушенных сел, развалины жилых домов, вокзалов, пакгаузов то проплывают перед нашими глазами под жалобный скрежет плохо смазанного металла, то проносятся стремглав, и тогда лязг и визг «пятьсотвеселого» звучат как вопль отчаяния и нестерпимой боли…
Иногда, на заведомо долгих стоянках, мы, все еще мыслями солдаты, отходили от поезда, чтобы окинуть взглядом знатока чьи-то брошенные траншеи, противотанковые рвы, разбитые снарядами блиндажи. И странно было слышать от главы экспедиции забытые слова — «обнажения грунта». Использовать для археологической разведки все эти «обнажения», пока они еще не засыпаны, не заросли, не замыты вешними водами, — такой родился план в голове нашего старшого.
В пути и на долгих остановках мы уже начали детализировать его замысел, обдумывать методику изучения и фиксации грунтовых срезов — многочисленных, но для археологии, как-никак, случайных, сделанных вовсе не для нужд этой науки и отнюдь не по ее правилам. Мы приучали себя улавливать взглядом и «читать» стратиграфию любых срезов, привыкали смотреть на них глазами исследователей прошлого. Много раз потом вспоминались нам — и как пригодились! — импровизированные уроки Павла Николаевича, преподанные на ходу.
До сих пор непонятно, учился ли тогда и он сам, П.Н. Шульц, чему-то для себя новому, или устраивалось это нарочно, специально для нас, чтобы заранее создать нужное настроение, морально подготовить к предстоящей работе. Ненавязчиво, исподволь, но, как всегда, последовательно и методично, перестраивал он вчерашних фронтовиков с покалеченными телами и израненными душами в «гражданских» — тех прежних мирных научных работников и студентов, какими были мы накануне войны и, оказывается, в глубине души продолжали оставаться. Это походило на пробуждение от кошмара, в котором, увы, ничто не было сном…
Основной задачей Тавро-скифской экспедиции являлось изучение Неаполя, столицы государства поздних скифов, расположенной на юго-восточной окраине Симферополя. В сентябре же 1945 г., когда прервались раскопки, подошла очередь выходов на Южный берег. Разведочный отряд из четырех человек во главе с П.Н. Шульцем двинулся из Симферополя пешком по направлению к Гурзуфу и Аю-Дагу. Маршрут пролегал через верховья реки Альмы и притоки Качи — Марту, Донгу, Писару. Вдосталь насмотревшись на памятники тавров, мы вышли под Роман-Кошем на Гурзуфское седло и спустились с яйлы к морю.
Сочетание подлинно римской оборонительной стены, терм и других античных строений с примитивной глыбовой подпорной стеной, наличие лепной таврской керамики, а рядом каменных ящиков тавров, — все это, увиденное в Хараксе, на мысе Ай-Тодор, давало повод ожидать того же и на других исарах. Воображение рисовало историческую картину: победители-римляне, захватив таврские укрепления, воздвигают на них, как на фундаментах, свои кастелы и кастры. Кеппеновская цепь взаимосвязанных укреплений легко (точно — по Дьякову!) воспринималась тогда как система римских укреплений, а перспектива археологического изучения и, конечно же, исследования таврской их подосновы открылась ошеломляюще, манила к себе не менее, чем внезапный вид на Южный берег с высоты Байдарских ворот.
Правда, рекогносцировки 1945—1946 гг., предпринятые Тавро-скифской экспедицией, не подтвердили соблазнительную теорию: ничего римского ни на одном из исаров, исключая Харакс, выявлено не было. Однако нас это не обескуражило. Таврские-то материалы есть! Предстояли еще раскопки, и на них мы надеялись крепко. Озадачивало одно: вне исаров таврский материал попадался куда чаще. Но ведь рядом же с исарами, а не где-то!
Более близкое знакомство с памятниками начало приносить некоторое разочарование: при всей их примитивности проступали в них и рядом с ними следы какой-то иной жизни, наверняка не таврской, более развитой и явно более поздней. Все то, что выпирало — крайняя бедность в смешении с убогой роскошью, сочетание примитивнейшего уклада с относительно развитой культурой земледелия (виноградарство), производством (виноделие, гончарство, кузнечное дело), торговлей (монеты, привозная керамика), — все это было средневековым. «Плоды страха и бессилия», — вспоминали мы все чаще эти слова на развалинах исаров, подбирая среди камней то железную стрелу, то маленькую галечную пулю для пращи, то наспех обработанное каменное ядро для баллисты.
- Однако никто из нас все же не усомнился в том, что перед нами укрепления тавров. А Харакс и Кошка, а Кастель возле Алушты и Крестовая гора над Алупкой, а одноименная скала над Ореандой или Гаспринский исар? Разве они не дают реальных следов обитания тавров? Но это, пожалуй, и все. Больше нет укреплений, где наряду со средневековыми материалами можно найти таврские строительные остатки, керамику, кремневые орудия. Почему же нам показалось, что памятники эти таврского времени? Почему поспешили мы отнести к античности и прочие исары Южнобережья? Ведь мы не отрицали — это было бы глупо — использование и перестройку укреплений средневековыми обитателями Таврики. Но они, обитатели эти, мало нас занимали. Скажем в свое оправдание: кроме нашей экспедиции, таврами тогда никто не занимался, мы же отдавались таврской проблеме всецело. Настолько, что и себе казались почти таврами. Все недавно пережитое невольно располагало к такой исторической параллели.Так что же, собственно, произошло? Вновь воскресли идеи и представления, питавшие сверстников наших сто с лишним лет назад? В какой-то мере, пожалуй, так. Сознаемся: и мы в соответствующем возрасте предпочитали Апулея Цицерону. Но (видит читатель) это совсем другая история и совершенно иная редакция классицизма. К тому же намного богаче стал накопленный наукой опыт критического исследования; да наконец налицо была и готовность применить этот опыт к самим себе.
Однако не таков наш руководитель, чтобы сразу отказаться от плодотворной гипотезы, отказаться при первом же появлении фактов, которые ей противоречат… Добрых десять лет спустя, когда у большинства из нас перегорели увлечения и разочарования, появилась его статья «О некоторых вопросах истории тавров». С обычной для П.Н. Шульца четкостью в статье изложена концепция, которая легла в основу ряда других работ и его самого и некоторых его учеников.
В этой большой статье П.Н. Шульц придерживается своего прежнего мнения о таврской принадлежности целого ряда исаров, в том числе и аюдагского. Слишком велико было (да и теперь не померкло) личное обаяние этого исследователя, чтобы кто-нибудь из нас вздумал ему противоречить! Как-то способен человек в таких случаях подавлять свой здравый скептицизм. Ведь видел же каждый из нас недостаточность и односторонность данных, которыми оперировал руководитель.
Мысль, в сущности, простая и в основе верная. Раз тавры, судя по всему, достигли того уровня, при котором возникает нужда в фортификации, значит, у них должны были появиться какие-то оборонительные сооружения. Правда, разведки на Аю-Даге, как и раскопки на Алупкинском исаре, не подтвердили принадлежности этих укреплений таврам, зато исследования 1950—1952 гг. на горе Кошка в Симеизе дали вполне обнадеживающий результаты. Уж там-то налицо средневековое использование таврских жилищ и остатков оборонительных сооружений тавров!
Скептицизм тех учеников П.Н. Шульца, которые, отойдя от античной проблематики, занялись крымским средневековьем, проявился много позже и привел (начиная с 60-х годов) к систематическому исследованию южнобережных исаров. В это время в Крыму неожиданно появился и сыграл свою роль новый исследователь — Л.В. Фирсов, тоже, можно сказать, найденный и взращенный самим П.Н. Шульцем.
- Лев Васильевич Фирсов, известный читателям этой серии как автор книжки «Чертова лестница», — по профессии геолог, но с весьма широким диапазоном интересов и запасом знаний, далеко выходящих за рамки основной специальности. Главное же (для данного случая) достоинство Л.В. Фирсова — полнейшая непредубежденность: в его творческой биографии ничто ранее не было связано с таврской темой. Видимо, это и поставило ученого в положение мальчика из сказки Андерсена, который первым сказал вслух о том, что король гол.
По его, скажем прямо, нигилистическому мнению, не существовало никакой фортификации тавров. Заложив собственноручно, на свой страх и риск, шурфы на ряде южнобережных исаров и проделав зондирование их стен, Л.В. Фирсов обнаружил такие данные (строительные растворы и прочее), которые действительно не совместимы с приписыванием подобных сооружений таврам и позволяют рассматривать их как продукт средневековья. Стало ясно, что фортификационная примитивность и внешняя дикость построек, архаичность строительных приемов — качества крайне стойкие и потому неприемлемые как безоговорочно датирующие признаки.
Так что же теперь считать истиной? — спросит читатель. Разумеется, только ее саму. Она, как учит многолетняя археологическая практика, является не вдруг, а собирается долго и по крупицам.
Зерна истины
И снова прошли годы. На Южном берегу Крыма небывало развернулось курортное и дорожное строительство. Крым — всесоюзная здравница; об этом твердят все — и крымчане, и их гости. Развитию курортов открыта «зеленая улица». Но Крым — это и всесоюзный археологический музей. Крым — лаборатория археологической науки. Неужто забыли об этом? Нет. Именно в последние годы и вышли в счет те правительственные постановления и указы, которыми руководствуется советская администрация. Памятник, задеваемый при строительстве, подвергается изучению, нередко при участии самих строителей. Крупица за крупицей выявляются новые факты, ложатся в археологическую «копилку» — в экспедиционные отчеты, в печатные труды исследователей.

Средневековый пифос, найденный в парке санатория «Крым»
Сказанное относится и к Аю-Дагу. Именно с него Институт археологии начал планомерное исследование древностей Южнобережья.
При строительстве многоэтажных корпусов и прочих сооружений санаторно-курортного комплекса «Крым» землекопы и экскаваторщики не раз находили большие глиняные пифосы, плоскую черепицу от некогда рухнувших кровель. Тогда же обнаружены были глубоко в земле остатки давно снесенных строений VIII—XV столетий. Едва заметные развалины таких же древних лачуг теснятся у дороги, что идет подножием Аю-Дага — ниже санаторных построек. Подобные же памятники прошлого мы найдем и выше дороги — на северном и северо-восточном склонах лесистой горы, а также на ее вершине, на южном и западном склонах, но более всего на седловине, куда приводит из Партенита заброшенная ездовая дорога.
Летом 1963 г. На юго-западном склоне горы, на территории Артека, были проведены разведывательные раскопки и топосъемка средневекового приморского поселения. Выяснилось, что оно возникло в VIII, а погибло в XV в., скорее всего при турецком нашествии. Затем — уже после того, как поселение было оставлено жителями — на него навалился огромный оползень. Обвал скалы уничтожил добрую половину заброшенных домов, уже и без того полуразрушенных.
Археологи раскопали основания некоторых построек, определили границы и планировку поселения. По средневековым масштабам этот населенный пункт — один из крупнейших в Таврике (по-видимому, около сотни жилых домов).
- Путем «частой шурфовки» занимаемой им территории удалось выявить очертания улиц, ограды домов, стены жилищ и хозяйственных зданий, сложенных из местного бутового камня на глине или грязевом растворе. Обнаружены также следы двух кузнечных мастерских, где изготовлялись железные якоря и металлические детали корабельной оснастки.Размеры домов различны: площадь наиболее крупных — до 27 кв. м. Толщина стен многих из них достигала 1 м, что позволяет предполагать наличие второго этажа. Окраинные жилища, как правило, крохотные, примитивно построенные, теснились на скалистых кручах. В настоящее время до них добраться непросто В древности же они, вероятно, сообщались друг с другом и с центром поселения целой системой висячих мостков, и лестниц.
С северо-западной, наиболее доступной стороны поселение было защищено оградой в 2,8 м толщиной, игравшей в трудную минуту роль оборонительной стены. Между камнями ее кладки найдено несколько застрявших железных наконечников стрел.
При раскопках извлечено множество керамики, по которой можно судить о времени существования этого поселения. Преобладает импортная малоазийская посуда: богато украшенные поливные блюда и тарелки, в изобилии амфоры, служившие в древности основным видом торговой тары. Среди прочих находок привлекают внимание рыболовные грузила для сетей, изготовленные из просверленных голышей, а также большое количество рыбьих костей, раковин мидий и устриц. Бросается в глаза полное отсутствие костей домашних животных. По-видимому, в хозяйстве артекского поселения главную роль играли морские промыслы и торговля дарами моря. Найденная здесь же золотая монета византийских императоров Василия I и Константина (869—879 гг.) может свидетельствовать о крупном, так сказать оптовом, характере этой торговли, что косвенно подтверждается и отсутствием медных монет.
На том же склоне Аю-Дага и в том же году обследованы остатки другого поселения, небольшого, но более древнего, тоже сильно пострадавшего от оползня. Поселение это, расположенное в урочище Осман, к северу от средневекового, было открытым, и его небольшие хижины плотно теснились друг к другу. Судя по археологическим находкам, просуществовало оно долго — с IV в. до н. э. по IV в. н. э., а если судить по подъемному материалу, собранному гурзуфскими краеведами А. Фроловым и Н. Лебедевым, возможно, и до V в. н. э. Среди находок на поселении преобладают грубые лепные сероглиняные горшки, отнесенные П.Н. Шульцем и А.М. Лесковым к позднетаврской керамике. Подобные же лепные кухонные горшки со средневекового артекского поселения чрезвычайно похожи на своих античных собратьев. Не говорит ли это в пользу устойчивости и известной преемственности культур?
Помимо битой посуды местного производства, на поселении были собраны обломки привозных амфор и краснолаковых сосудов первых веков нашей эры. Упомянутые нами позднеантичные монеты, найденные на самом поселении и рядом — на месте артекского водохранилища, говорят о бесспорных связях населения этих мест с далеким Боспором. Как ни странно, связи эти более тесные, чем с находившимся по соседству Херсонесом.
Поселение в урочище Осман принадлежало скорее всего таврам. Свидетельством тому не только лепная, явно таврская керамика, но и расположенные рядом с ним — на холме Тоха-Дахыр — погребения в каменных ящиках.
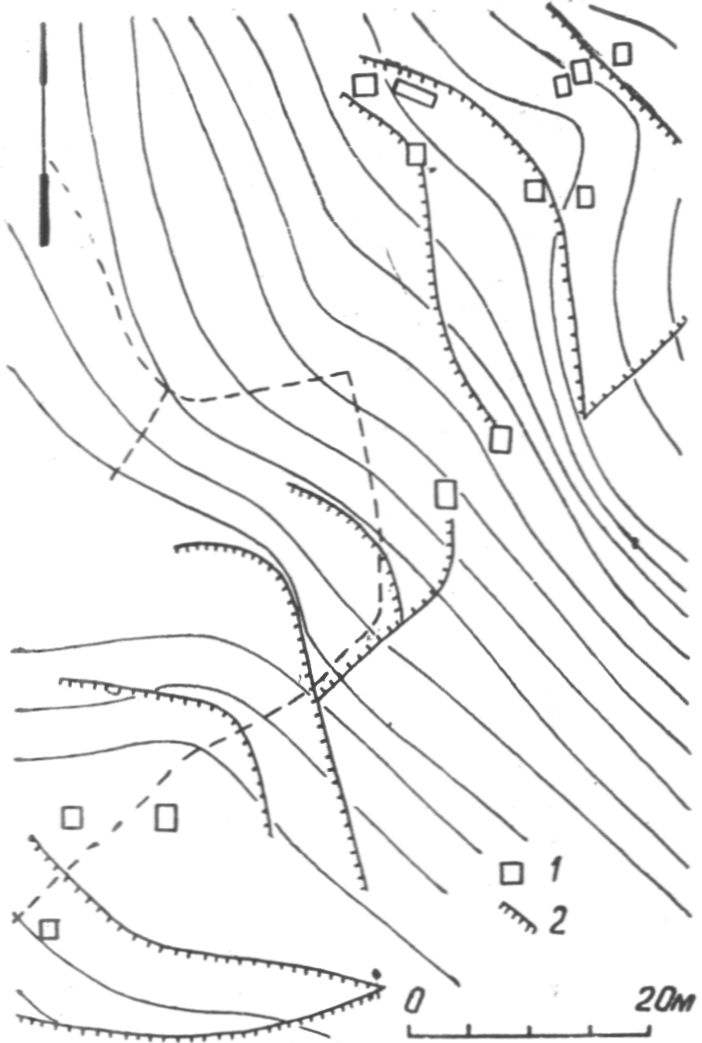
План таврского поселения на западном склоне Аю-Дага. 1 — остатки жилых домов; 2 — террасы
На этом же месте и немного ниже — остатки другого сильно разбросанного поселения VIII—X вв. Территорию его полностью определить не удалось: при благоустройстве и расширении парка многие постройки были разрушены. Рядом с поселением существовал катакомбный могильник V—VII вв. — на том же холме Тоха-Дахыр. Он исследовался (еще до революции) Н.И. Репниковым, раскопавшим несколько склепов.

Средняя оборонительная стена (восточный склон Аю-Дага)
Таким образом, весь западный склон Аю-Дага и в древности и в средние века был довольно плотно обжит. Артекскую группу поселений соединяла с подобными же поселениями на самой горе система мелких террас, вырубленных в скале примитивных ступенек и пандусов (наклонных площадок), которые еще прослеживаются в верхней части приморского поселения — над вышеупомянутым обвалом. Отмеченная особенность — взаимосвязь между различными памятниками Аю-Дага дает нам право говорить о едином аюдагском комплексе, все звенья которого какое-то время существовали одновременно. Рассмотрим здесь эти памятники — сначала порознь — в том порядке, как они были выявлены археологами.
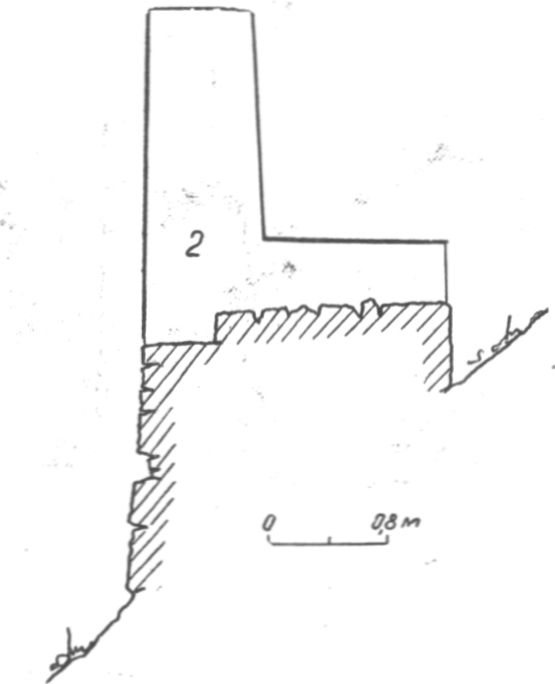
Средняя оборонительная стена. (Разрез и реконструкция.) 1 — разрез сохранившейся части стены; 2 — реконструкция
На самом Аю-Даге известны издавна, но впервые обследованы Н.И. Репниковым, остатки средневекового поселения с церквушкой и плитовый христианский могильник. Они заметны и в наши дни — на поляне Ай-Констант, которая находится на широкой и пологой седловине юго-восточного склона, высоко над морем. Репников недостаточно выявил характер этих построек, а их дата осталась неустановленной. Поэтому в июле 1969 г. было предпринято специальное и довольно детальное обследование Аю-Дага.
Стоило археологам отойти от проложенной туристами тропы, пересекающей поляну Ай-Констант, — в какой-нибудь сотне метров от нее к северу в чаще леса показались развалины оборонительной стены. Некогда стена эта опоясывала весь восточный скат горы от обрывистого края поляны, висящей над морем, до скалистого склона глубокого ущелья, расположенного под южной частью кольцеобразного укрепления на вершине. Над серединой стены в тех же зарослях скрываются остатки небольшого средневекового поселения.
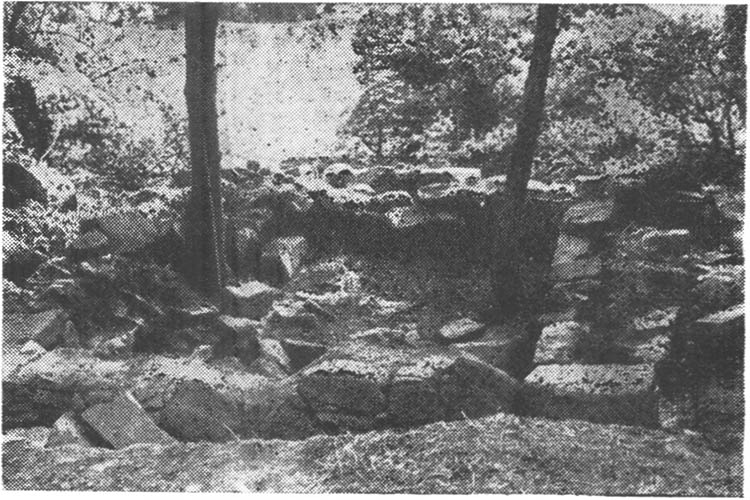
Развалины храма на поляне Ай-Констант (раскопки 1969 г.)
Оборонительная стена оказалась сложенной из необработанного бутового камня на глине. Она преграждала доступ на гору к этому поселению и постройкам на поляне Ай-Констант с доступной восточной стороны. Крупные камни цоколя стены лежат без фундамента непосредственно на грунте. При ширине стены в 2,5—2,8 м разница уровней с ее внешней и внутренней сторон составляла не менее 3 м, а если учесть, что был и какой-то парапет (общей высотой не менее 1,5 м), высота этой преграды в целом могла составлять около 5 м. В шурфе у стены открыто скопление круглой мелкой гальки («пуль» для пращи) и более крупной — ядер для небольших катапульт. Башен при этой стене не было.
На поселении исследовано около 30 домов, стоявших на небольших террасах, подпертых крепидами. Постройки, сложенные из бута на глине, состояли в основном из одного, реже двух смежных помещений. Их стены толщиной около 80 см сохранились на высоту до 1 м. Судя по обломкам керамической посуды, поселение возникло не ранее VIII в. и было заброшено жителями не позднее X в. Следов пожара или разрушений, говорящих о катастрофической его гибели, не найдено. После X в. жизнь на нем, по-видимому, не возобновлялась.
На поляне Ай-Констант («святой Константин») уцелели мощные, толщиной до 2 м, фундаменты какой-то прямоугольной большой постройки. По местоположению и характеру развалин это вполне мог быть донжон замка или — если судить по названию урочища—укрепленного монастыря. Так это или нет — покажут дальнейшие исследования. По археологическим данным, постройка эта существовала лишь в VIII—X вв.
В центре поляны, у заброшенной дороги открыты остатки храмика, ориентированного алтарем на восток. Стены его, толщиной 0,6 м, сохранились на высоту до 1,2 м. Сложены они из мелкого бута на известковом растворе. При раскопках были найдены туфовые камни клинчатой формы и туфовая капитель пилястры, свидетельствующие о сводчатом перекрытии храма. Дверной проем находился в южной стене, подле юго-западного угла здания, — черта, характерная для большинства средневековых южнобережных храмов. Среди находок многочисленные обломки средневековой черепицы, осколки поливных чашек, позволяющие датировать храм XII—XV вв. Свинцовая ампула с частицей мощей какого-то святого была вделана в основание престольного камня. Храм построен на мощном раскате камней от стен какой-то более древней постройки, дату и назначение которой можно выяснить лишь путем более развернутых раскопок.

План храма на поляне Ай-Констант
Южнее и ниже поляны Ай-Констант, на естественной террасе над берегом моря, прослеживаются остатки однокамерных жилых домов. Высота их стен даже без раскопок достигает 2 м. Рядом — фундаменты более крупной постройки, вытянутой с северо-запада на юго-восток. Ее стены сложены на известковом растворе. В завале здания оказались клинчатые туфовые камни — верный признак того, что и это сооружение сводчатое; оно тоже могло быть храмом, судя по раскату камней, — значительных размеров. Многочисленные обломки столовой и кухонной керамики показывают, что вся группа построек существовала, по-видимому, в XII—XV вв. Однако в подъемном материале отмечена керамика и более раннего времени. Не исключено поэтому, что поселение возникло здесь еще во времена епископа Иоанна.
Как уже было сказано, на вершине горы в 1969 г. снова обследовались остатки кольцеобразного укрепления, вызывавшего столько разногласий среди археологов. Оно наклонено к северу, и на месте наплыва грунта в нижней (т. е. северо-восточной) части укрепления было заложено несколько глубоких шурфов и небольшой раскоп. Это дало возможность осмотреть фундаменты оборонительной стены, небольшого, заваленного камнем, башенного выступа — от стены наружу — и одной из ранее известных построек, примыкающих к стене с внутренней стороны.
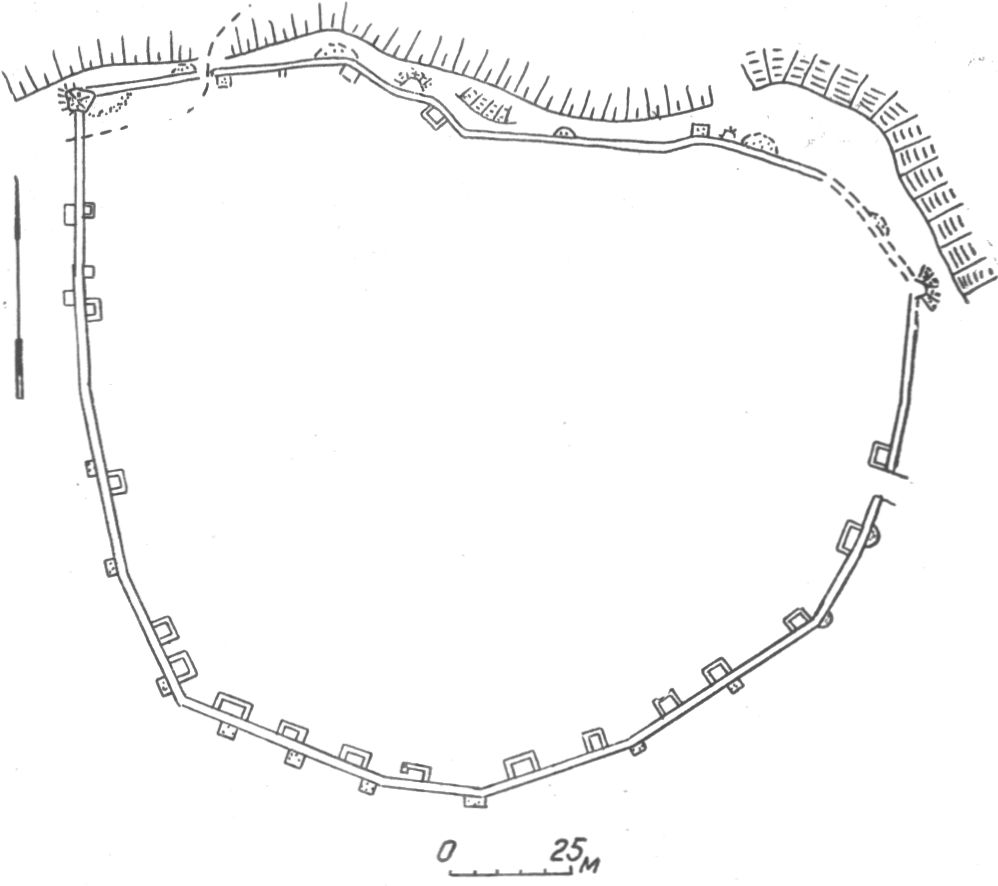
План кольцеобразного укрепления на вершине Аю-Дага
Кладка стен укрепления столь примитивна, что до недавнего времени ее считали таврской. Однако по своим строительным приемам и по внешнему облику она не отличается от оборонительной стены на восточном склоне горы, которая, как показали шурфовки, построена около VIII в. и заброшена не позднее X в. Толщина стены верхнего кольцеобразного укрепления, сложенной из бута на глине и поставленной без фундамента прямо на грунт, оказалась всего 2,0—2,2 м. С внешней ее стороны видны раскаты четырнадцати небольших прямоугольных и четырех полукруглых башен, пристроенных к ней.

Кольцеобразное укрепление Часть стены с основанием башенного выступа (раскопки 1969 г.)
В качестве оснований для башенных выступов с обрывистой восточной стороны использованы естественные нагромождения скальных глыб и выходы коренной породы. На некоторых участках стены сохранились остатки небольшого парапета, судя по которым, полная ее высота была не менее 3 м.
В шурфах, заложенных внутри кольцеобразного укрепления, найдено лишь несколько мелких обломков амфор, таких же, как амфоры VIII—X вв. с поляны Ай-Констант. Ничтожное количество этих находок свидетельствует о том, что здесь не было постоянной жизни. Вероятнее всего, перед нами обычное убежище, возведенное на случай военной опасности. В такого рода укреплениях укрывали небоеспособную часть населения, а также скот—главное богатство жителей всех поселений раннесредневековой Таврики.
В 60 м к югу от кольцеобразного укрепления, в чаще леса, обнаружены остатки еще одного небольшого храма, очень похожего на описанный выше храм Ай-Констант. Те же размеры, та же строительная техника свойственны и двум другим культовым постройкам — храмику последнего строительного периода, возведенному на развалинах Партенитской базилики, и церквушке, найденной Н.И. Репниковым на юго-восточной «лапе» Медведь-горы. Одинакова и их дата — XII—XV вв.
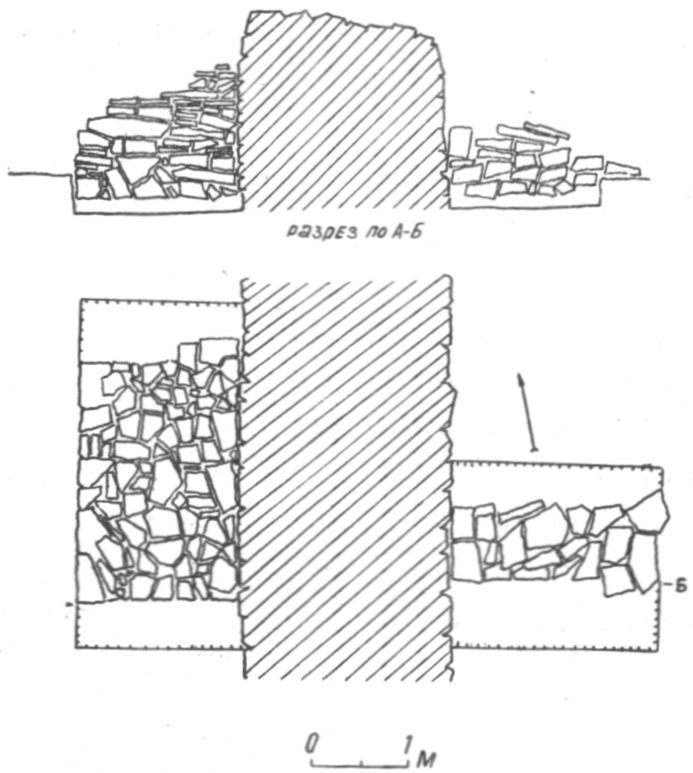
План раскопа и разрез стены кольцеобразного укрепления
Случайно ли мелкие храмы («репниковский» и на поляне Ай-Констант) возникли на развалинах более ранних и относительно крупных построек? Все они вполне могли быть сооружены одновременно — в XV в. — известным уже читателю митрополитом Дамианом, предпринявшим, как мы полагаем, первое возобновление «древних святых мест» в горах Таврики.
С осени 1969 г. другие, более срочные дела, отвлекли внимание археологов от Аю-Дага, тем более что главная часть задачи была косвенно решена — таврских древностей на Аю-Даге не оказалось. Не в пользу «таврской концепции» оказалась и новая дата кольцеобразного укрепления.
Прошел год после этой разведки, как вдруг поступило сообщение от артековцев А. Фролова и Н. Лебедева (о них мы уже упоминали). На южном склоне горы ими найдено новое, и пожалуй, самое крупное из средневековых поселений Аю-Дага. Крымским отделом Института археологии АН УССР проведена была еще одна археологическая разведка.
Поселение расположено на западной стороне Большого оврага, над обрывами к морю. На естественных террасах склона разбросаны остатки более полусотни крохотных однокамерных хижин и более крупных двухкамерных домов. Стены их, сложенные на глине из местного бута, сохранились на высоту до 1,5 м. По планировке домов и характеру застройки это поселение аналогично обнаруженному в 1969 г. и датируемому VIII—X вв.
Среди раскатов камня от развалин поселения собраны многочисленные обломки амфор VIII—X вв., фрагменты кухонной и столовой посуды. Материалы позднее X в. отсутствовали.
В январе 1973 г. в безлиственном и просматриваемом насквозь лесу Аю-Дага снова состоялась археологическая разведка. На восточном склоне горы, ниже оборонительной стены, открытой в 1969 г., прослежена вторая, более длинная оборонительная стена, как позднее выяснилось, — самый нижний пояс многоярусной обороны Аю-Дага. С одной стороны она упирается в обрыв над санаторным пляжем (неподалеку от места, где находится «репниковский» храмик), а с другой — в обрыв над северным оврагом, на 100 м ниже стены 1969 г., конец которой тоже доходит до скалистого края того же оврага (под кольцеобразным укреплением на вершине). К северу от оврага непрерывной стены нет, однако доступ к кольцеобразному укреплению преграждали своеобразные, небольшие, но мощные каменные заслоны (а может быть, и башни), сооруженные на всех легкодоступных участках. Таким образом, и с этой стороны попасть на вершину горы было не так-то просто. Древний въезд на гору находился не на месте современной туристской тропы, которая проходит через пролом в ограде кольцеобразного укрепления, а южнее оврага — через нижнюю и среднюю стены.
Храм, обследованный Н.И. Репниковым, стоял непосредственно у древних крепостных ворот. Отсюда дорога тянулась по склону отрога до следующих ворот — у выхода на поляну Ай-Констант. Въезд на нее контролировал, вероятнее всего, упомянутый выше донжон. В 200 м выше стены 1969 г. обнаружены были в 1973 г. остатки еще одной заградительной стены, затруднявшей доступ к верхнему укреплению, которое играло, таким образом, роль уже четвертого оборонительного эшелона. Разумеется, эти «пояса» возникли не сразу и не вдруг, а скорее всего по мере постепенного заселения Аю-Дага. Период активного и одновременного их существования не мог быть продолжительным: материалов позднее VIII—X вв. в развалах боевых стен не найдено.
После X в., в связи с разрушением базилики и монастыря св. Апостолов, стены на Аю-Даге были заброшены и со временем пришли в негодность. Начиная с X в. жизнь постепенно сосредотачивается на берегу моря, в Партенитах, — на месте современного поселка.
Вот пока и все, что может — «на данном этапе» — рассказать археолог конкретно об Аю-Даге и Партенитах. И мы вправе уподобить его муравью, собирающему зерна — те хлебные зерна, что мало-помалу наполняют житницу науки.
Подытожим сказанное.
Аюдагские памятники, рассмотренные взаимосвязанно, в совокупности, — целостный организм, в функциях которого нетрудно разобраться. Налицо ведь все элементы феодального угодья: резиденция владетеля, тщательно продуманная (как сказали бы мы теперь, «глубоко эшелонированная») система оборонительных сооружений, жилища зависимого от владыки трудового люда. Обилие храмов — целая лавра! — говорит о церковно-феодальном характере этого владения, а его размеры свидетельствуют о богатстве и, очевидно, немалом политическом весе хозяина.
Кто, когда, почему
Мы сообщили все, что известно нам о Партенитах и храме Девы, об Аю-Даге и загадочном Бараньем Лбе, рассказали кое-что о знаменитых крымских исарах. Заодно, коснувшись археологических исследований Южнобережья, осветили мы две исторические концепции, владевшие умами наших предшественников — их домыслы, в одних случаях обоснованные какими-то фактами, а в других навеянные политической и идеологической конъюнктурой прошлого и начала нынешнего века.
Все, что знаем, выложили, как на духу, ничего не скрыли. Вот если бы и читатель удосужился поведать нам, что вынес он из нашего рассказа! Прежде всего, удалось ли ему получить более или менее ясное представление о «недоуменных вопросах» Аю-Дага, а заодно и проблеме крымских исаров. Какой из двух основных вариантов ее разработки показался ему наиболее убедительным? Или в его глазах оба они — античный и средневековый — равно не заслуживают доверия?..
- Как бы то ни было, а отныне прочитавший нашу книгу знает, что вопрос об археологических памятниках Аю-Дага и Партенита имеет не узкоместное значение. Он глубже, шире, гораздо серьезней, чем может показаться с первого взгляда человеку малоосведомленному. Этот вопрос вплетается в сложный узел проблем истории не только Таврики и не только Крыма в целом, а всего Северного Причерноморья. И притом не исключительно античной или средневековой поры — он касается и близкого к нам времени.
Представьте себе, что мы направились вверх по древней, ныне заасфальтированной партенитской дороге, у подножия Аю-Дага свернули влево, на извилистую и каменистую тропу, когда-то тоже дорогу. Позади остались огромные корпуса санаторного комплекса «Крым», курортный поселок и парк, живописные скалы Кале-Поти. Перед нами вздымается звероподобная гора, заросшая, точно шерстью, густым лесом. День-деньской стоит в чаще зеленый полумрак, и в жаркое летнее время хорошо бы не спеша побродить или посидеть в тени и прохладе. Но скоро захочется пить, а воды-то и нет. Обманчиво зашуршит жесткими листьями чахлый камыш в сыроватой впадине, открытой к морю обрывистым краем, — там, где сгрудились развалины последних покинутых человеком жилищ…
- Задумчиво, мерно, могуче дышит колышимый ветром лес Аю-Дага. Сумрачно в лесу. Унынием веет от обомшелых каменных кладок. Оборвалось тут что-то однажды, много лет назад, и навеки ушло вместе с водой… Все, кто проходит через Медведь-гору, не застревают на ней. Ни вечернего бренчания туристской гитары, ни обязательных банальных песнопений у без нужды разведенного костра — ничего подобного на Аю-Даге не услышишь. Глухо на нем, как на кладбище, — одном из кладбищ истории.А ведь было иначе. Скрип открываемых дверей, громкие возгласы, чья-нибудь перебранка, чей-то смех или детский плач, блеяние овец и коз — вот какие домашние звуки раздавались некогда на Медведь-горе.
Так, по крайней мере, обстояло в эпоху средневековья, а о более ранней поре мы, по правде сказать, ничего не знаем. Может быть, и для окрестных тавров представлял Аю-Даг нечто большее, нежели охотничье угодье, а уж для средневековых людей был он, что называется, отчим домом.
Но кто же тут жил? На вопрос этот, увы, нелегко ответить археологу. Ведь люди разного этнического происхождения могут быть носителями единой культуры и строителями похожих жилищ; могут исповедовать один и тот же религиозный культ, следовать общей моде в одежде, украшениях и прочем. Соседи многое заимствуют друг у друга: с кем поведешься, от того и наберешься, — справедливо гласит пословица. Если бы знали мы разговорный язык этих людей — в нем-то ярче всего проявляется этнос! И еще в погребальных обрядах: наряду со всем общим, что велит религия, диктует вселенский обычай, сохраняется в них и нечто частное, присущее только этой, а не иной этнической группе.
Судя по окружающим Аю-Даг могильникам, люди, считавшие гору святой (да и впрямь освятившие ее множеством храмов), могли быть отдаленными потомками тавро-скифов, сначала «сарматизованных», затем смешавшихся с потомками греков и так называемых готов (вернее гото-аланов). В VIII—IX вв. происходит, надо полагать, ассимиляция местного населения с пришлым — теми византийскими эмигрантами, что спасались в Таврике от иконоборческих гонений. Не благодаря ли пришельцам закипела тут жизнь — земледельческая, ремесленная, торговая? Следы ее встречаем мы чуть ли не на каждом шагу в горном и южнобережном Крыму.
Многие из ныне заброшенных троп были некогда относительно благоустроенными дорогами. Множество таких путей-дорог змеилось по склонам Медведь-горы, по Гурзуфской и Партенитской котловинам. Оттуда веером расходились они по всему Южнобережью, перемахивали через горы в юго-западные и юго-восточные районы Таврики. А в самом средоточии паутины ездовых дорог, вьючных и пешеходных троп стоял на седле Аю-Дага комплекс больших, укрепленных (судя по всему, монастырских) строений. Недаром епископ крымской «Готии» Иоанн сделал эту гору своей резиденцией — он и родом-то был из Партенита.
Когда это было? — спросит читатель. Мы уже говорили об этом, но ответим еще раз и как можно яснее. На основании сказанного в предыдущих главах мы считаем, что гора была обжитой в VIII—XV вв.: археологический материал, собираемый пока от случая к случаю, до сих пор подтверждал наши соображения. Безусловно, возможны и, конечно, весьма нужны уточнения дат отдельных памятников, но для этого надо развернуть на Аю-Даге и в Партените уже не разведки, а систематические и более длительные археологические исследования.
Последний из трех вопросов, поставленных в начале нашей книги: почему? Его приходится разделить надвое. Скажем, во-первых, почему так охотно селились люди на крутющей горе, куда нелегко забраться? Ответ, в сущности, ясен: потому, что жить на труднодоступной, да еще и укрепленной горе всего безопасней. В смутные, кровавые времена средневековья люди, как и теперь, трудились в долине; она кормила, одевала. Но родимый их кров был на Аю-Даге.
Все изменилось раньше, чем сами собой и обычным путем назрели социальные перемены, которые не так-то скоро заставили бы людей перебраться вниз — туда, где их поля, сады, огороды. Вряд ли охотно они это сделали. Ведь переселиться значило перестать самому себя оборонять (т. е. жить по своему разумению и воле) и полностью отдаться под «высокую руку» какого-то местного феодала — вроде бы родича, защитника и вождя, но куда в большей мере кровососа-эксплуататора.
Почему? — спросим снова себя мы и читатель. Почему люди покинули гору, а не постарались подольше пожить на ней относительно свободной сельской общиной? Ведь община была, очевидно, сильна, состояла из шести зажиточных поселений, объединившихся вокруг «святого» монастыря Апостолов (тоже, в скрытой сути своей, феодала).
Нет, не выбил их с горы какой-либо враг; никаких нет признаков этого. Просто не стало на горе воды, а с тем прекратилась на ней и жизнь, развалилась община.
- Поселение на юго-западном склоне Аю-Дага — со стороны Артека (о нем уже говорилось) разрушено в XV в. большим оползнем и буквально накрыто грандиозным обвалом, засыпано обломками вдребезги разбившейся скалы. Допустимо предположить, что подобная катастрофа была связана с одним из тех больших землетрясений, которые время от времени сотрясают Крымский полуостров. Может быть, в результате того же землетрясения шире разошлись трещины в старом каменном теле Медведь-горы. В них конденсировалась и скапливалась атмосферная влага, по ним же она и ушла глубоко под землю.Вспомним, что у подножия Аю-Дага со всех сторон изливаются и в долину и в море неоскудевающие родники. К тому же следы и остатки средневековых поселений есть на горе только там, где когда-то бурлили иссякшие ныне источники. По «верхней» дате каждого поселения можно судить о том, когда именно заглох вспоивший его родник.
Вот почему нас встречают пустые, затянутые землей и задернованные стены брошенных людьми хижин, развалины хлевов и загонов для скота; вот почему обратилось в руины укрепление на вершине и рассыпаются камнем по склону горы пояса оборонительных стен. Потому-то и заросли, стали труднопроходимыми аюдагские дороги и тропы.
Вероятно, в народном предании покинутая гора осталась «святой». Однако потом, в период турецкого владычества, христианство стал вытеснять ислам, и Святая гора (Айя-Даг) сделалась Медведь-горою (Аю-Дагом). Так могло быть переосмыслено название, уже непонятное тому, кто родился в долине при турках, стал забывать свой язык, отходить от религии предков. Старое имя горы заменилось по смыслу иным, но по звучанию сходным названием.
Буйный лес густо одел широкую спину и крутые бока горы. Гуляет по зарослям ветер: то вдруг засвистит, загудит в вершинах деревьев, то сухо шуршит камышом, шелестит омертвелой травой на лесных полянах. Ветер сметает палую листву с обомшелого камня развалин. Все здесь наводит на думу о прошлом — о далекой от нас жизни, о людях, которые, как и мы, ступали когда-то по этой земле.