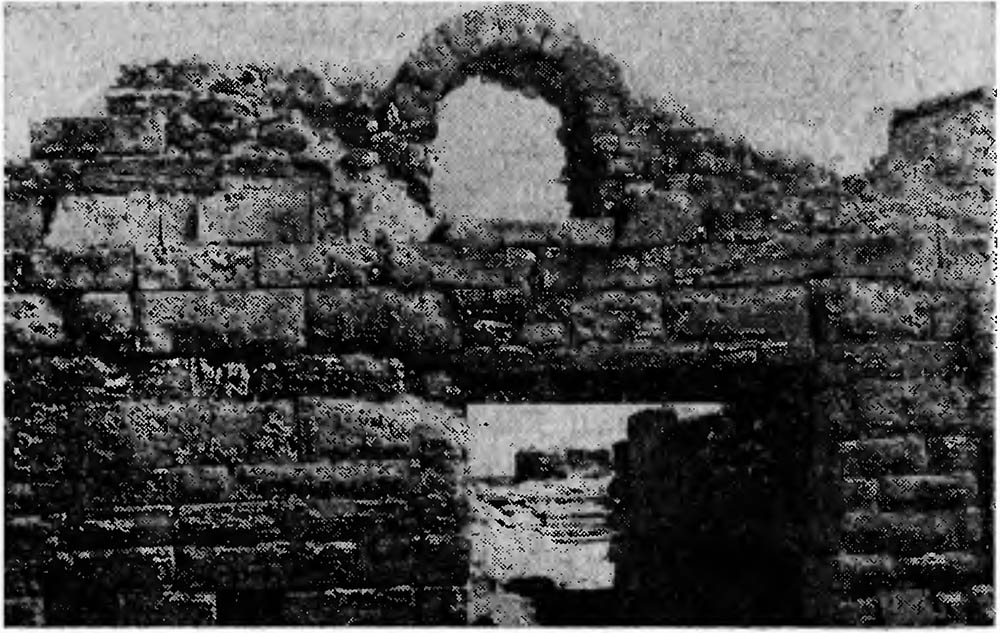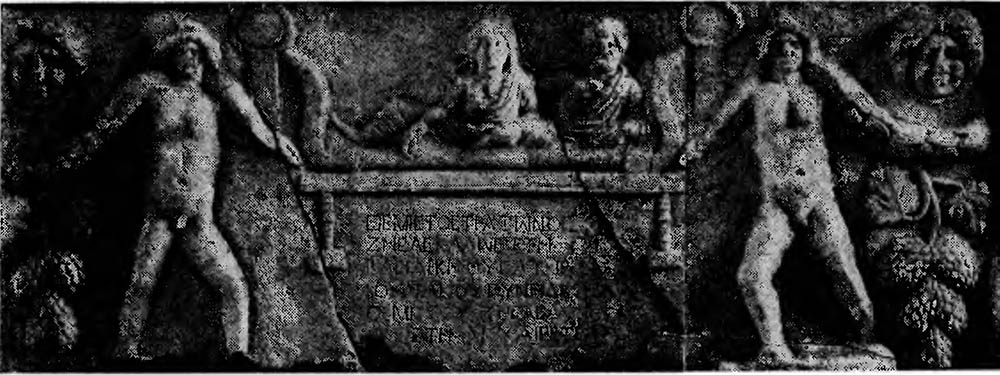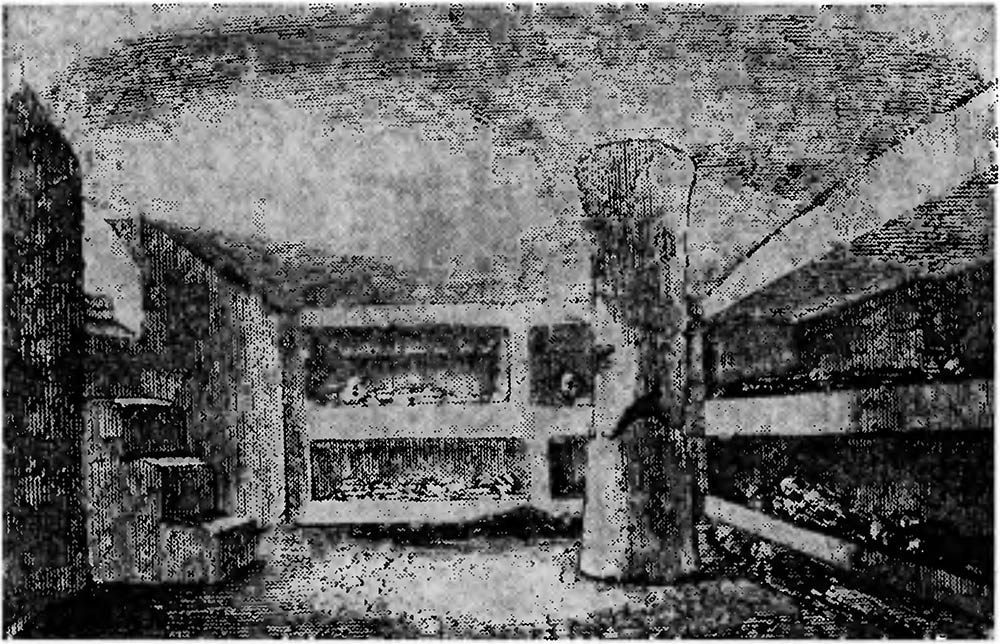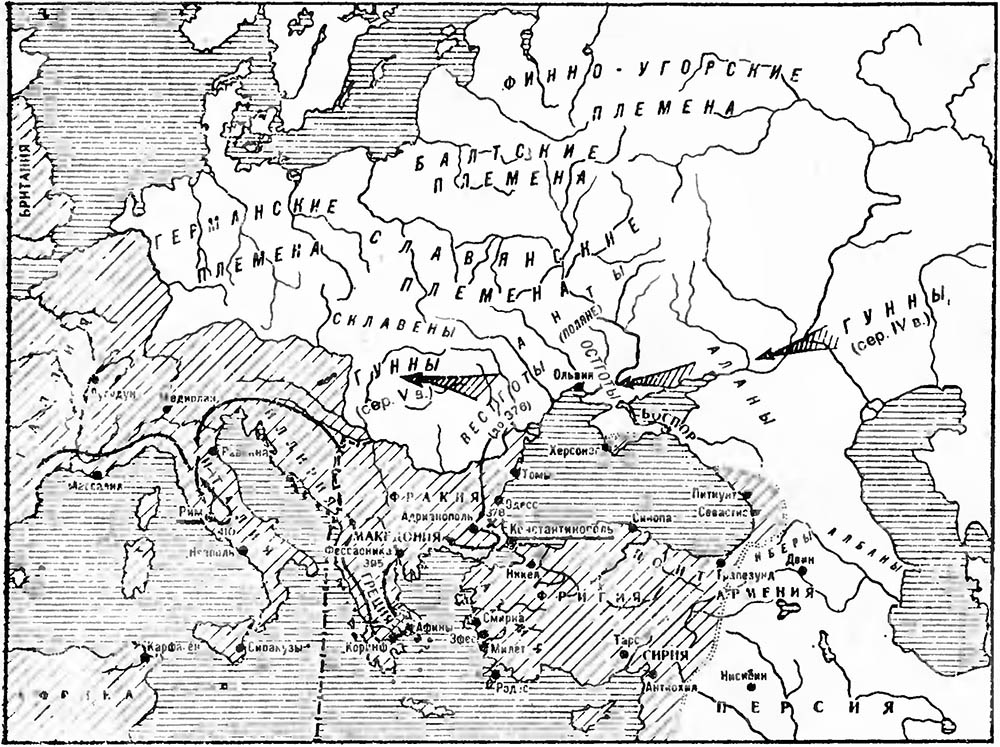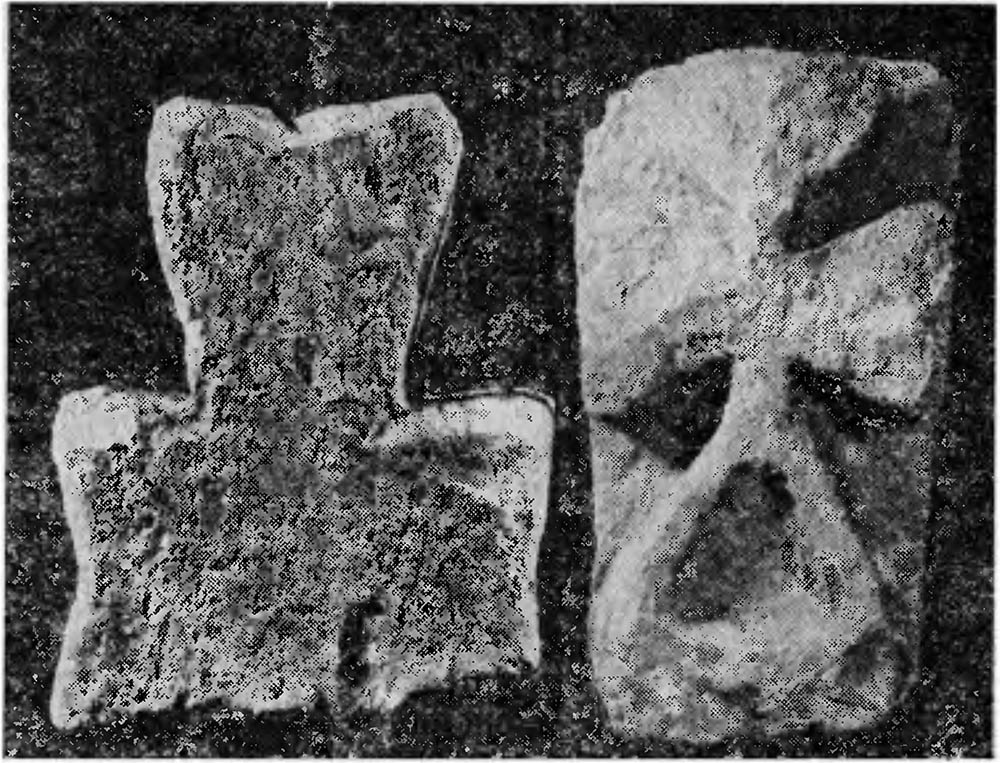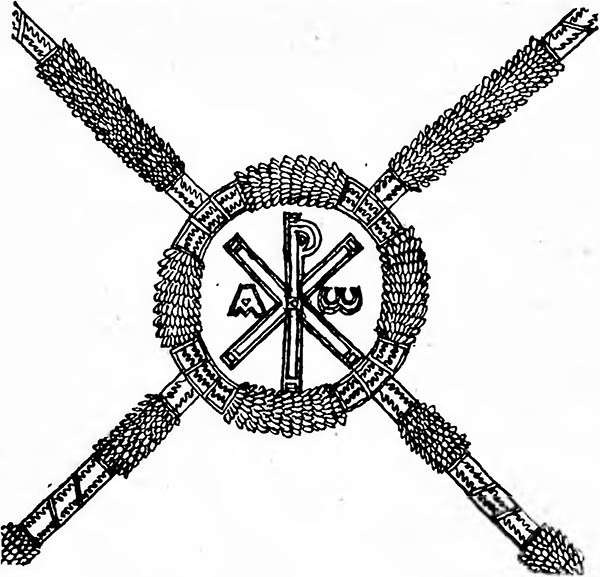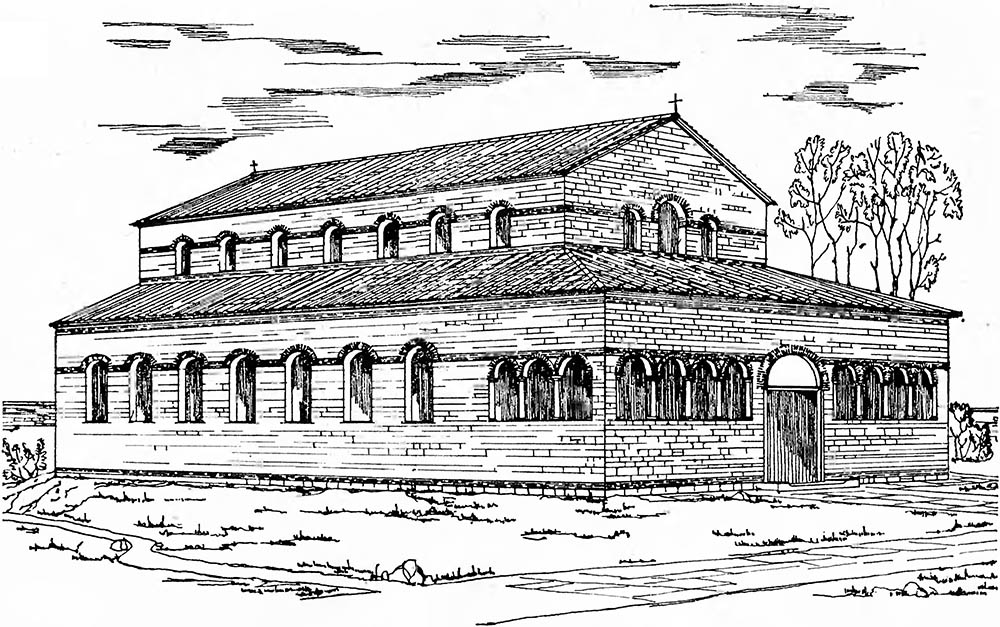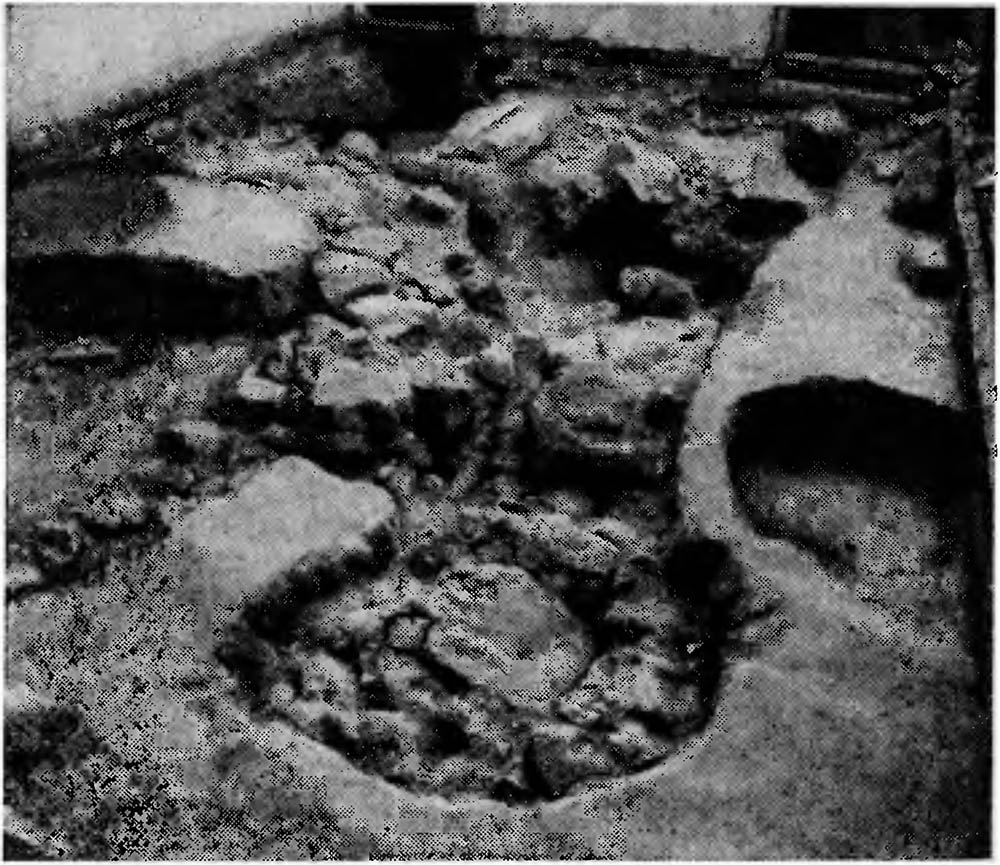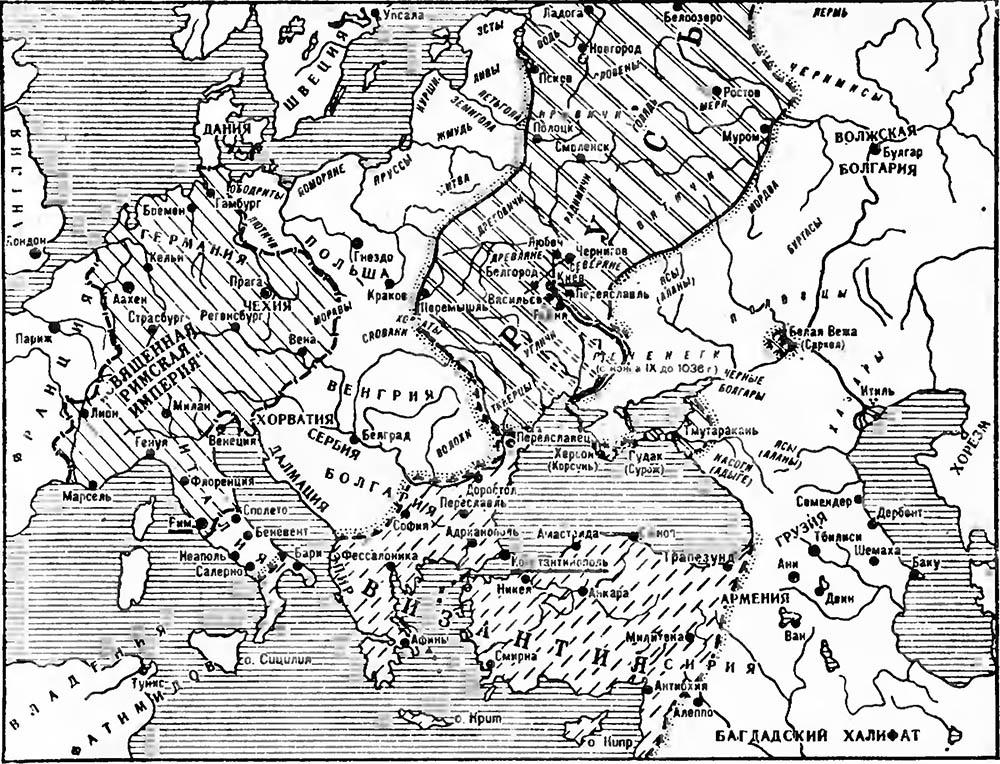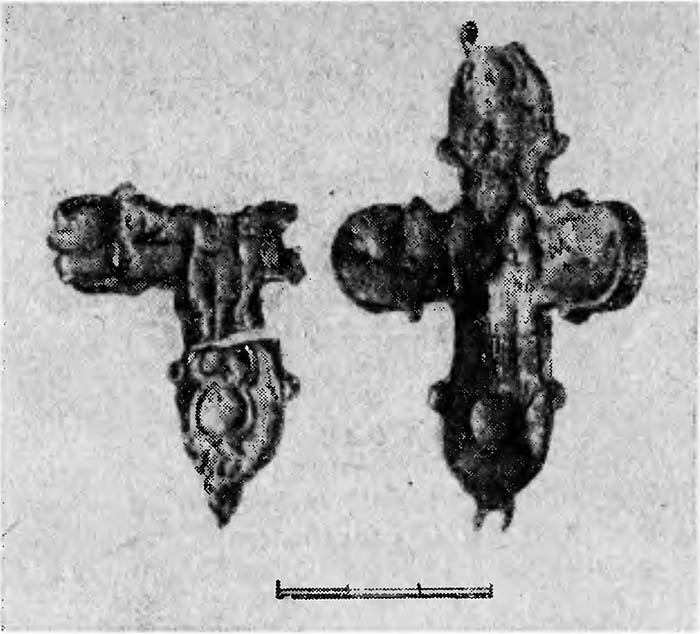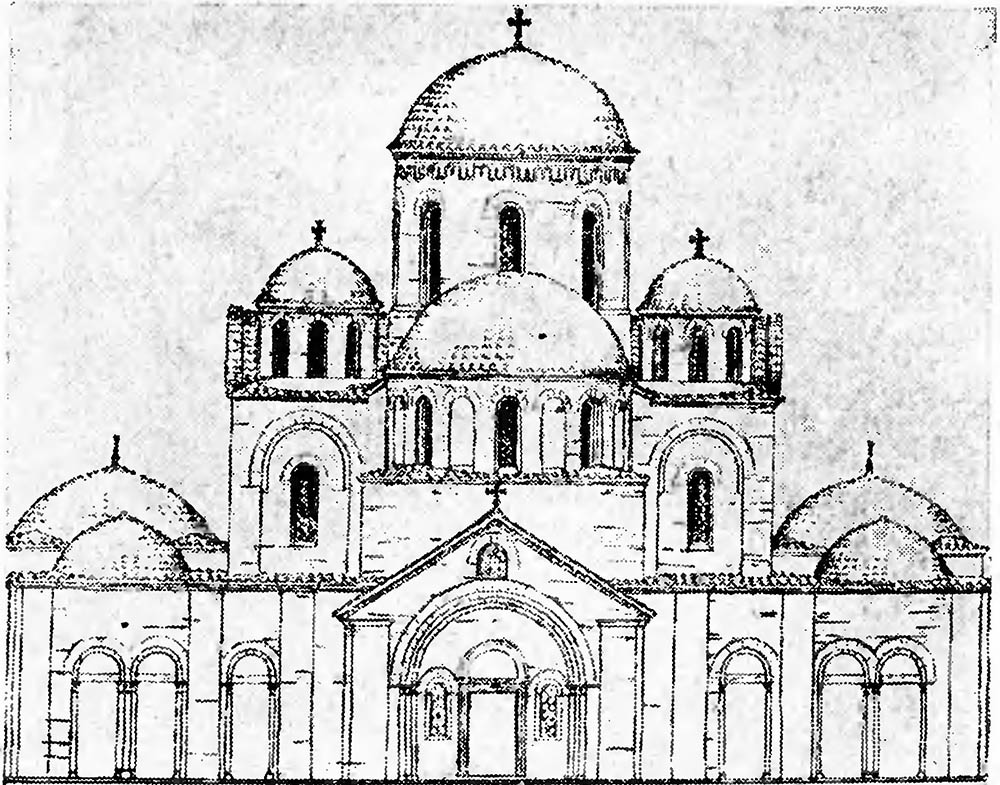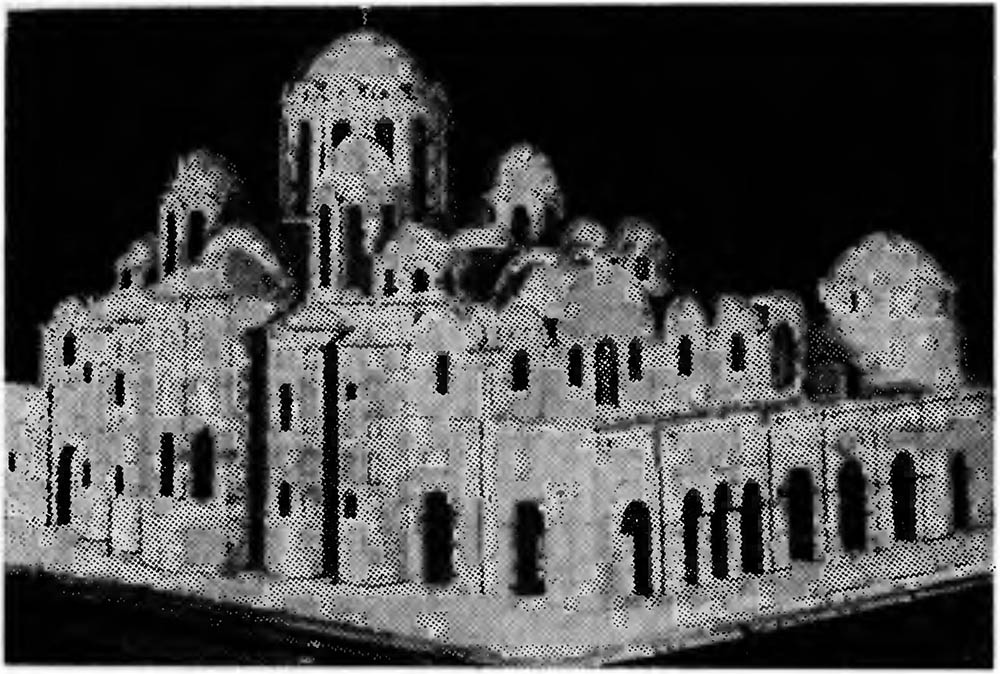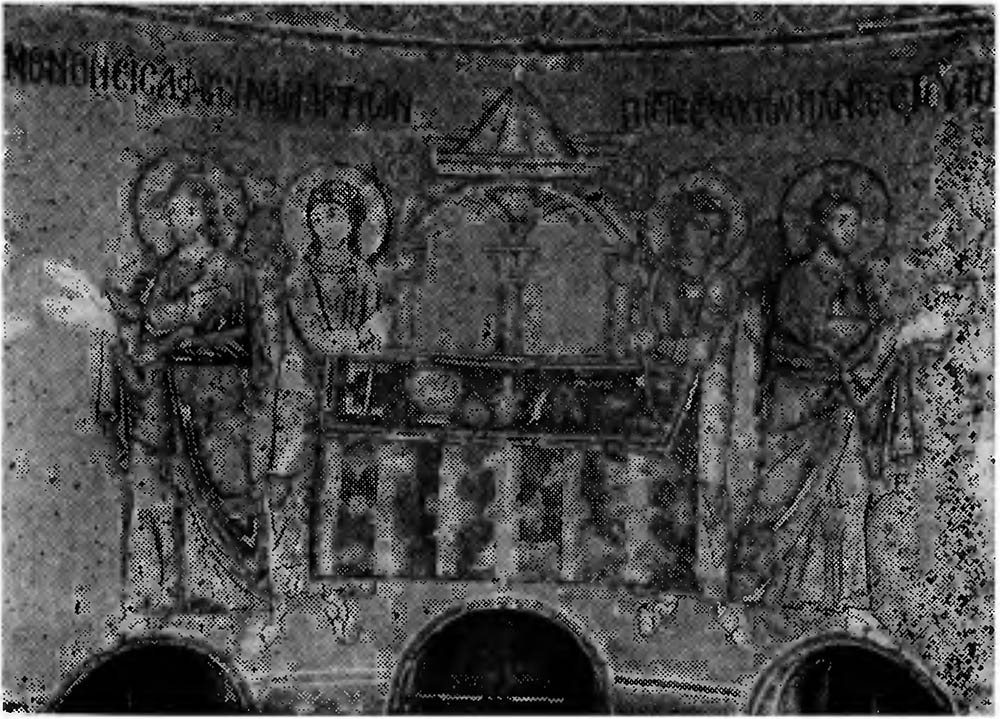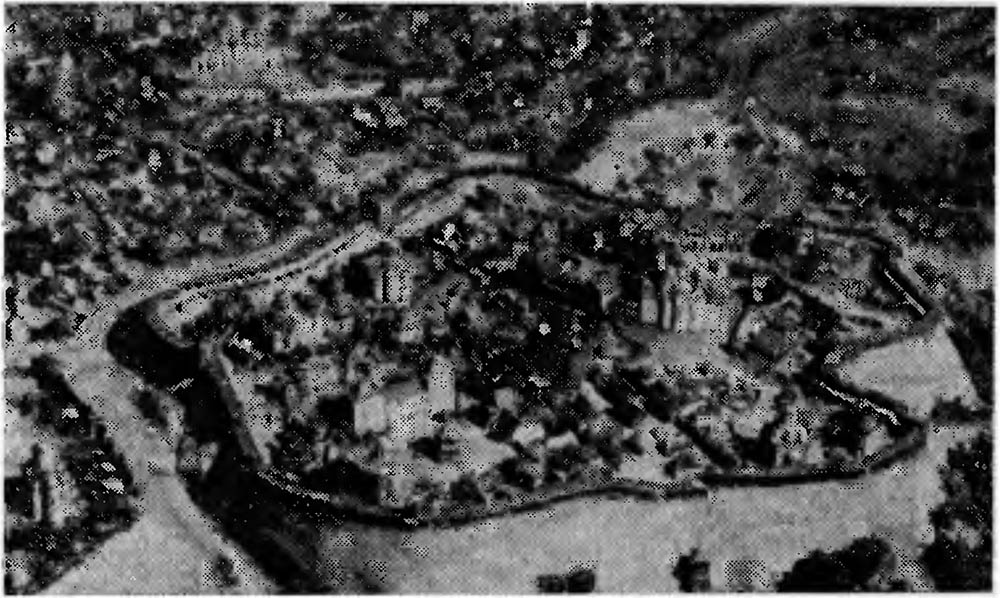Предыстория становления христианства, процесс проникновения его на Русь, связанные с этим острые политические столкновения различных групп древнерусского общества, многовековая борьба официального православия с языческими традициями, критика церковных представлений о времени, причинах и характере распространения христианства на юге Восточной Европы — вот неполный круг вопросов, освещенных в книге с ориентацией на широкие круги читателей.
Содержание
Духовная культура херсонеситов и позднеантичный религиозный синкретизм
- 1. Религия херсонеситов классического времени. Орфизм
- 2. Главные божества позднеантичного религиозного мировоззрения: бог-вседержитель, бог-спаситель, богиня-мать
- 3. Верования херсонеситов в первые века нашей эры
Утверждение христианства в Херсонесе, средневековом Херсоне — Корсуни
- 1. Проникновение христианства в юго-западный Крым
- 2. Политическая борьба в Восточно-Римской империи и христианизация херсонеситов
- 3. Византия и раннесредневековый Херсон
Боги древних славян
- 1. Функции мифологических персонажей
- 2. Структура праславянского пантеона
- 3. Среднеднепровские славяне в первом тысячелетии нашей эры. Кризис язычества
Христианство в Киеве до вокняжения Владимира Святославича
- 1. Сторонники и противники христианства на Руси
- 2. Крещение Аскольда и захват власти Олегом
- 3. Христианство и язычество при первых Рюриковичах
Утверждение христианства на Руси
- 1. Религиозный вопрос в первые годы правления Владимира
- 2. Корсунский поход
- 3. Введение христианства на Руси
Заключение
Список основной литературы
Введение
Сто лет назад, «в память девятисотлетия крещения Руси», в России было выпущено немало популярных брошюр, в которых излагалась официальная, принятая духовенством и царским правительством точка зрения на появление и распространение христианства на Руси. Пропагандировалась следующая концепция. Осознавший убожество язычества и мучимый совестью за грехи прежних лет великий князь киевский Владимир, сравнив различные религии (мусульманство, иудаизм, латинское и греческое христианство), посовещавшись с боярами и старцами, склонился к православию. Затем в 988 г., дабы не унижать достоинство Отечества просьбами перед надменной Византией, Владимир отправился в поход на Херсонес (Корсунь) «завоевывать веру». Добившись победы и получив в жены сестру византийских императоров, он крестился во взятом им городе. После этого с супругой и греческим, преимущественно корсунским, духовенством он возвратился в Киев и крестил люд столицы, а затем и всей прочей Руси.
В популярных брошюрах рассказывалось и о состоявшемся якобы шестьсот шестьюдесятью тремя годами ранее крещении жителей Херсонеса. Император Константин, при котором христианство превратилось в государственную религию Римской державы, перед открытием первого вселенского собора, состоявшегося летом 325 г. в Никее, отправил в Херсонес епископа Капитона в сопровождении военного отряда. Местные язычники не хотели креститься, однако миссионер совершил чудо и они, уверовав, приняли новую религию.
Что же можно сказать обо всем этом сто лет спустя, рассматривая выдвинутые тогда концепции сточки зрения последних достижений истории и археологии? Не трудно догадаться, что в настоящее время проникновение христианства в Восточную Европу — сперва в Херсонес, затем в Киев и далее, в другие центры Руси, представляются ученым далеко не таким, как об этом писали православные авторы сто лет назад. Рассмотрению того, как, когда, почему и при каких обстоятельствах христианство проникло в южные районы европейской части нашей страны, и посвящена предлагаемая вниманию читателей работа.
Стремясь показать распространение христианства в южной половине Восточной Европы на широком фоне всемирно-исторического процесса, а также выявить социальные предпосылки и идейные истоки тех изменений в мировоззрении людей, которые сперва в Крыму, а затем и на Руси определили возможность перехода от язычества к христианству, авторы сочли необходимым остановиться и на других, органически связанных с основной темой проблемах. В частности, это духовный мир жителей античного Херсонеса и возникновение христианства, этапы развития древнеславянского язычества и характер русско-византийских отношений, социально-политическая борьба на Руси в IX—X вв. и др. Лишь при таком подходе распространение христианства среди народов Восточной Европы на протяжении более чем тысячелетнего промежутка времени может быть понято как результат их внутреннего развития при учете роли их связей с соседними цивилизациями.
Определенные трудности в освещении христианизации Руси связаны с тем, что в науке существует ныне ряд «конкурирующих» концепций происхождения славян, их древнейших религиозно-мифологических представлений, предыстории Древнерусского государства, условий его возникновения и этапов развития. Еще более дискуссионным является вопрос о времени проникновения христианства в восточнославянский мир и его распространении среди населения Среднего Приднепровья, а затем и остальных земель Киевской Руси. Не меньше споров вызывает пока еще слабо изученный процесс проникновения и утверждения христианства на южном и юго-западном побережье Крыма — первом оплоте православия на территории Восточной Европы. Именно отсюда, из древнегреческого города Херсонеса Таврического (именуемого средневековыми греками Херсоном, а древнерусскими летописцами Корсунью), влияние христианского вероучения по днепровскому торговому пути проникало в Киев и ближайшие к нему города.
Вместе с тем в последние годы стало выясняться, что на территорию Лесостепной Украины в эпоху раннего средневековья христианство проникало не только из крымских владений Византии, но и со стороны Подунавья, Болгарии и погибшей в начале X в. Великой Моравии. Именно там с середины IX в. успешно действовали «просветители славян» Кирилл и Мефодий, их многочисленные ученики и последователи.
Тот факт, что и в наши дни ведутся споры практически по всем ключевым вопросам, связанным с историей христианства на территории Восточной Европы, конечно же, не означает невозможности научного освещения данного процесса.
Уже выдающийся русский историк XVIII в. В.Н. Татищев на основании разнообразных источников установил, что христианство проникло на Русь более чем за столетие до правления князя Владимира. По его мнению, первый раз Русь была крещена при князе Аскольде в 867 г., после удачного похода его дружин на Константинополь. К такому же выводу в середине прошлого века пришел и харьковский архиепископ Макарий, писавший, что «это первое крещение русов, со всеми его обстоятельствами, описывают более десяти византийцев». Он поддержал идею В.Н. Татищева о причине гибели Аскольда из-за нерасположенности к нему «некоторых киевлян, не хотевших принять крещение и потому пригласивших к себе Олега-язычника». Факт крещения русов в 60-х годах IX в. на основании критического изучения свидетельств средневековых авторов был доказан в капитальном исследовании Е.Е. Голубинского по истории русской церкви, первый том которого вышел в 1901 г.
В отличие от дореволюционных историков советские ученые 30-х годов, в частности С.В. Бахрушин, Б.Д. Греков, Н.М. Никольский и М.Н. Тихомиров, уделили главное внимание выяснению социально-экономических условий и причин распространения христианства в восточнославянской среде. Они настойчиво проводили мысль, что во введении православия били заинтересованы господствующие классы, тогда как народные массы противились этому процессу и еще долго придерживались языческих представлений. Факты распространения христианства на Руси до княжения Владимира и тогда были известны. Однако постепенно, особенно в 40—50-е годы в литературе едва ли не общепризнанным стало мнение, что крещение киевлян в 988 (989) г. лишь открыло историю христианизации древнерусского общества, стало исходным моментом длительного и сложного процесса внедрения новой религии.
При таком подходе не только затушовывалось прогрессивное значение перехода восточнославянского общества на следующую ступень духовного развития, освоения им соответствующей феодальному строю новой формы осмысления бытия, но и упускалась из виду острая идейно-политическая борьба, охватившая значительную часть древнерусского общества перед утверждением православия как официальной религии при князе Владимире. Вопреки желанию пропагандистов 20—50-х годов, стремившихся к разоблачению антинародной деятельности церкви в эпоху царизма, создавалось впечатление, что сами трудовые слои древнерусского общества не играли никакой роли в духовном развитии страны, а в лучшем случае могли какое-то время глухо противиться навязываемому им князьями христианскому миропониманию.
В течение последних лет научная литература обогатилась работами о политической и религиозной истории Киевской Руси IX—X веков. В исследованиях М.Ю. Брайчевского, Б.С. Рыбакова, А.Н. Сахарова, П.П. Толочко и других ученых было раскрыто международное положение Древнерусского государства во времена правления Аскольда и его непосредственных предшественников, одним из которых, очевидно, и был Дир.
В контексте системного понимания социально-экономического, общественно-политического и идейно-религиозного развития древнерусского общества эпохи становления и утверждения раннефеодальных отношений находят теоретическое объяснение свидетельства письменных источников о распространении христианства на Руси задолго до правления Владимира Святославича. Точно так же и внимательный анализ сообщений раннесредневековых авторов позволил советским исследователям на новом идейно-теоретическом уровне реконструировать историю проникновения и распространения христианства в Киеве с 60-х годов IX в. Многие моменты в этом процессе и теперь вызывают разногласия. Они относятся прежде всего к интерпретации частных вопросов: когда и где крестились Ольга, а затем и Владимир, был ли князь Ярополк крещенным или же только сочувствующим христианам и т. д.
Причинами подобного рода расхождений во взглядах исследователей прежде всего являются неясность, а то и противоречивость отдельных мест в ряде дошедших до нас источников. К ним особенно относятся некоторые расхождения между древнерусскими летописями и сообщениями византийских авторов о причинах похода Владимира на Корсунь. «Повесть временных лет» относит это событие к 988 г., связывая его с решением князя креститься и получить в жены сестру византийских императоров. Греческие же авторы, сообщая о взятии русами Херсона и браке Владимира с Анной, ничего не говорят ни о крещений великого князя, ни о последующем введении православия на Руси. На этом основании М.Ю. Брайчевский как ранее Е.Е. Голубинский, полагает, что Владимир принял христианство до корсуньского похода (который, кстати, судя по византийским источникам, следует относить не к 988, а к 989 г.). Вместе с тем П.П. Толочко в этом вопросе больше полагается на летописную версию, согласно которой крещение Владимира состоялось в Херсоне в церкви св. Василия, после чего он был обвенчан С царевной Анной.
Гораздо сложнее реконструировать систему религиозно-мифологического мировоззрения древних славян, предшествовавшую появлению Древнерусского государства и распространению христианской идеологии. Сложность состоит Не только в отсутствии прямых источников, освещающих языческие верования славян до начала средневековья. В решающей степени она зависит от исходной научной позиции исследователя при интерпретации археологических находок. Положение усугубляется тем, что в настоящее время археологи придерживаются различных взглядов о происхождении славян.
Согласно Б.А. Рыбакову (развивающему традиционную концепцию, восходящую через работы Б.Д. Грекова к идеям В.В. Хвойко и Л. Нидерле), на территории Лесостепной Украины славяне являются исконным населением, предки которых жили здесь как минимум со времен бронзового века. На протяжении многовековой истории они трижды (в эпоху скифского господства в Причерноморье, в позднеантичное время как непосредственные соседи Римской империи и в раннее средневековье) выходили на уровень сложения классовых отношений, окончательно утвердившихся лишь в последней четверти I тыс. н. э. Соответственно, и мировоззрение восточнославянских племен в преддревнерусский период не следует представлять по аналогии с верованиями эпохи классической первобытности, как это нередко делают и в наше время. На протяжении I тыс. до н. э. — I тыс. н. э. праславяне и древние славяне, находясь в тесных связях с южными цивилизациями, и сами достигли многого в экономике и организации общественной жизни.
Согласно двум другим концепциям, древние славяне появляются на территории Украины в первой половине или даже в середине I тыс. н. э. — уже после гибели того общества, которое поддерживало торговлю с греками и в скифское время оставило в районе Среднего Поднепровья памятники высокой культуры. В.В. Седов и И.П. Русанова полагают, что в лесостепную зону Украины славяне пришли с территории Польши. По мнению И. Вернера и Д.А. Мачинского, первоначальной областью расселения славян было лесное Верхнее Поднепровье.
Археологические исследования последних лет, проводившиеся В.Д. Бараном, Н.М. Кравченко, Е.В. Максимовым и рядом других ученых, убедительно показали непрерывную линию социально-экономического и этнокультурного развития населения Лесостепной Украины позднеантичного и раннесредневекового времени. Можно говорить о его непосредственной связи со среднеднепровскими племенами скифского времени и их предками эпохи бронзы, которых Б.А. Рыбаков и считает праславянами. Поэтому, на наш взгляд, в настоящее время наиболее убедительной можно считать концепцию, предложенную Б.А. Рыбаковым. Из нее мы и будем исходить при реконструкции религиозно-мифологической концепции праславян, осознавая гипотетичность как исходных посылок, так и конечных выводов.
Достаточно дискуссионным является и вопрос о времени и условиях проникновения христианства в юго-западный Крым. Выявлено противоречие между церковным преданием, записанным около VII в., относящим обращение жителей Херсонеса в христианскую веру к 325 г., и данными археологических раскопок. Согласно последним, об окончательном утверждении православия в этом городе можно говорить лишь с VI в.
Для понимания специфики распространения христианства в Херсонесе следует остановиться не только на верованиях херсонеситов классического и эллинистического периодов. Необходимо также представить в общих чертах синкретическое религиозное мировоззрение позднеантичной цивилизации, в системе которого вырабатывались и по-разному истолковывались те идеи и образы, которые и составили основу христианской идеологии. Претерпев на протяжении веков принципиальные изменения, она в IV в. утвердилась на территории Римской империи, а затем через Херсон проникла и к народам Восточной Европы.
На основе общетеоретического понимания идейного развития в античное и средневековое время, сопоставляя данные письменных и археологических источников, мы уже можем в общих чертах представить длительный и сложный путь становления христианского вероучения и его распространения из средиземноморских центров в Причерноморье и далее на север. В столь широком ракурсе вопрос о распространении христианства на территории Восточной Европы в литературе пока не был освещен. Его рассмотрение и содержится в предлагаемой вниманию читателей книге.
Духовная культура херсонеситов и позднеантичный религиозный синкретизм
1. Религия херсонеситов классического времени. Орфизм
Специфической чертой общественной жизни древних греков — как у себя на родине, в Элладе, так и в основывавшихся ими многочисленных колониях по берегам Средиземного и Черного морей — был полисный строй. Полис представлял собой союз свободных и в принципе равноправных граждан, сосредоточенных в определенном, как правило, укрепленном, поселении и совместно владеющих прилегающими к нему землями, разделенными между отдельными семьями на участки — клеры.
С увеличением численности населения, развитием ремесел и торговли, углублением социально-экономического неравенства полис, являвшийся на первых порах античной формой крестьянской общины, постепенно превращался в город-государство. В его рамках власть, как правило, принадлежала полноправным гражданам. Большинство их было прямыми потомками первопоселенцев, владевшими своими земельными наделами постольку, поскольку они обладали политическими правами и в случае военной опасности образовывали ополчение. Они же и составляли народное собрание как высший законодательный институт города-государства, избирающее лиц на общественные должности и принимающее окончательные ответственные решения по наиболее важным вопросам.
В экономике наиболее развитых торгово-ремесленных городов (Милет, Эфес, Коринф, Афины) постепенно возрастал удельный вес рабского труда. Но в преимущественно аграрных районах, в частности в большинстве колоний, главным производителем материальных благ всегда оставался свободный земледелец.
Главные ворота Херсонеса. Современное состояние
Херсонес Таврический был основан выходцами из Гераклеи Понтийской — могущественного города-государства, расположенного на южном побережье Черного моря и являющегося, в свою очередь, колонией дорийцев из города Мегары.
К тому времени, когда гераклеоты решили организовать колонию, куда могла бы переселиться часть наименее состоятельных граждан, ионийскими колонистами на северном берегу Черного моря уже практически были освоены все удобные для земледелия и торговли места. Кроме того, в северопричерноморских степях уже сложилось сильное Скифское царство, соседство с которым было далеко не безопасным для первопоселенцев. Южное же побережье Крыма, защищенное от степи горами, заселяли тавры, известные человеческими жертвоприношениями и встречавшие греков очень враждебно. Все эти обстоятельства и определили основание колонии гераклеотов на отдаленной периферии таврских и скифских территорий — в районе, мало пригодном для зернового земледелия и развития торговли с варварами. Однако местность эта оказалась весьма благоприятной для виноградарства и рыболовства. Здесь же была удобная естественная стоянка греческих кораблей, пересекавших Черное море с юга на север в самом узком месте.
В Херсонесе преобладали и на протяжении нескольких веков устойчиво сохранялись дорийский диалект и дорийские традиции, как, например, особое почитание Геракла, считавшегося прародителем вождей этого «племени». Судя по некоторым источникам, в основании колонии приняли участие и ионийцы — выходцы с острова Делос, славившегося величественным культом и роскошным храмом Аполлона, особо чтимого всеми ионийцами. Естественно, что граждане Херсонеса поклонялись традиционным греческим богам: Зевсу — владыке неба, богов и людей, Гее — богине земли, Гелиосу — богу солнца и т. д. Однако здесь, на новом месте, в соответствии с реальными условиями существования, религиозные верования и культы принимали своеобразный характер.
Прежде всего жители Херсонеса особо почитали богиню Деву-Артемиду, издавна считавшуюся владычицей Таврии. Именно на гористые, поросшие хвойными и жестколистными лесами берега южного Крыма унесла Артемида предназначенную для жертвоприношения ее отцом, царем ахейцев Агамемноном, Ифигению, сделав ее своей верховной жрицей среди тавров. Культ Девы — богини природы, лесов и диких зверей — издревле существовал у тавров. Это коренное население Крымских гор приносило ей в жертву потерпевших кораблекрушение мореходов. Греки, отождествлявшие свою Артемиду с богинями природы других народов, признали ее и в таврской Деве.
Осваивая побережье Крыма, колонисты стремились умилостивить грозную хозяйку этих мест, задобрить ее, сделать своей помощницей и покровительницей. В ее честь они воздвигли роскошный храм и статую, изображавшую богиню в виде юной охотницы в коротком хитоне, с луком и колчаном стрел в сопровождении лани. В таком облике она запечатлена на многих херсонесских монетах. Восходя к изваянию конца V в. до н. э. работы Стронгилиона, это изображение богини-охотницы дошло до нашего времени в виде римской копии — хранящейся в Лувре статуи «Артемиды Версальской». Артемида херсонесского храма также была, очевидно, воспроизведением того же оригинала.
Наряду с Девой-Артемидой, херсонеситы поклонялись и ее брату-близнецу Аполлону. Ревностными его почитателями были делосцы, принявшие участие в основании города. Как сын Зевса, Аполлон выступает в роли бога-прорицателя высшей воли, бога-очистителя людей от ритуальной скверны и греха, бога врачевания (впоследствии им стал его сын Асклепий), музыки и поэзии. Позже с Аполлоном был отождествлен бог солнца Гелиос, упоминаемый в тексте херсонесской присяги (конец IV — начало III вв. до н. э.) еще самостоятельным божеством. В сознании древних греков Аполлон ассоциировался со всем светлым (в эпической поэзии — постоянный эпитет к его имени: блистающий), ясным, разумным, оформленным и определенным, связанным с тактом (музыкой), размером (поэзией) и осмыслением (философией). Его представляли в образе лучника, направляющего свои огненные стрелы-лучи на врагов, и вместе с тем почитали как покровителя наук и искусств, занятия которыми в архаической Греции были доступны главным образом представителям аристократических родов. Поэтому Аполлон пользовался особой популярностью в среде знати и противопоставлялся земледельческому по своей природе культу другого сына Зевса — Диониса, бога виноградарства и виноделия.
Культ Диониса играл особую роль в жизни Херсонеса. Как уже отмечалось, основой экономической жизни горожан было земледелие. Каменистая же почва юго-западного Крыма способствовала не столько выращиванию зерновых (как это, скажем, было в Ольвии или на Боспоре), сколько развитию виноградарства и виноделия. Вино продавалось народам северного Причерноморья, обеспечивая тем самым прочное материальное благополучие херсонеситов. Это, естественно, способствовало почитанию веселого, близкого заботам каждого земледельца Диониса. В его честь в Херсонесе, как и во всех других городах, совершались пышные всенародные празднества — Дионисии. В ходе их устраивались карнавальные шествия, разыгрывались драматические и комические представления.
Однако к середине I тыс. до н. э. почитание Диониса во многих, особенно аграрных городах Греции, приобрело и мистический аспект. Он был связан с развитием и концептуальным оформлением веры в индивидуальное бессмертие души. Тайной, эзотерической (сокровенной, скрытой от непосвященных) доктриной дионисийской религии становится орфизм — приписываемое легендарному певцу и поэту Орфею учение. Оно явилось, по существу, философско-поэтическим переосмыслением старинной веры едва ли не всех древнеземледельческих народов в умирающее и воскресающее божество природы. По его образу и подобию моделировалась и загробная участь человеческой души.
Согласно орфическим представлениям, люди были созданы из золы, в которую Зевс превратил титанов, растерзавших и поглотивших его сына — «первого Диониса», Диониса-Загрея, или, согласно элевсинскому варианту мифа, Диониса-Иакха. Однако Афине удалось спасти и передать Зевсу его сердце, которое тот проглотил, а затем, сочетавшись с дочерью первого фиванского царя Кадма Семелой, породил «второго Диониса». Он и стал богом вина, виноделия, чувственного экстаза, обеспечивающим бессмертие души своим адептам.
Возникнув из смешения дионисийского и титанического начал, противоположных по своей сути — светлого и темного, возвышенного и заземленного, духовного и материального — человек оказывается изначально раздвоенным, обуреваемым противоположными страстями и стремлениями. Его душа, призванная к вечной жизни, но томящаяся в оковах материального мира, стремится к соединению с исходной субстанцией Диониса. Однако титаническое начало в человеке препятствует ее освобождению. Противоборством дионисийской и титанической субстанций определяется, согласно орфикам, связанный со страданиями и надеждами круговорот жизни и смерти людей. Нравственный долг понявшего свое назначение человека состоит в содействии освобождению дионисийского начала своего естества путем подавления титанического, средством чего и является «орфическая жизнь», состоящая в соблюдении ряда нравственных заповедей, в строгом вегетарианстве и освоении учения. Постулирование бессмертия души каждого человека, освобождающейся из гробницы тела (sôma — sêma — тело — гробница: один из орфических афоризмов), было новой идеей для греков, привыкших представлять бессмертными одних богов. Это учение было демократическим, исходящим из мысли о принципиально равных возможностях всех людей достичь освобождения и реализовать свое потенциальное бессмертие независимо от происхождения и социального статуса.
В своей мифо-поэтической теологии орфики придавали большое значение понятиям жизни и смерти. Они полагали, что жизнь — наказание, которым человек искупает грех титанов, что новую, блаженную жизнь можно получить лишь через смерть. Образ Диониса, его трагическая судьба и возвращение к жизни выражали идею торжества над всевластием смерти, все более утверждавшуюся в мировоззрении древних греков архаического и классического времени. Мистическое посвящение в орфические таинства представлялось подготовкой к будущей жизни, символами которой стали виноград и чаша с вином.
Легко заметить, что в орфизме, в частности его пифагорейском варианте, ставшем в последующие века идейной основой дионисийской религии, уже явственно проступают моменты отрицания земного, видимого мира (темного и ложного с точки зрения адептов данного учения). В условиях сложной социальной и идейной борьбы в эпоху классической античности радостное, жизнеутверждающее дионисийское мировоззрение архаической эпохи постепенно превращалось в свою противоположность — во впервые прозвучавшие на греческом языке проповедь аскетизма и призыв к освобождению от «телесных оков», порабощающих стремящуюся к божественному миру душу. Здесь же мы видим и образ невинно страдающего, погибающего и вновь возвращающегося к жизни сына верховного бога — Диониса, сущности которого подобна или даже тождественна каждая человеческая душа. Такие идеи и образцы, начавшие утверждаться в сознании древних греков более чем за полтысячелетия до появления христианства, во многом были созвучны последнему. Орфизм, особенно в его пифагорейской обработке, оказал огромное воздействие на формирование идеалистической философии Платона. Он же подготовил идейную почву для восприятия позднее античными греками христианской проповеди неприятия материального мира, духовного обновления и загробного слияния с пострадавшим от земного зла Богом-сыном, выступающим в роли спасителя человеческих душ. Орфический Дионис выступает в роли отдаленного прообраза христианского Спасителя.
Фрагмент мраморного надгробия с орфико-диониснйской символикой
Широкое распространение религии Диониса среди херсонеситов засвидетельствовано находками статуэток, мраморных рельефов и надписей, связанных с именем божества. Это позволяет предполагать и знакомство горожан с орфическим учением, широко распространившемся в VI—V вв. до н. э. по всей аграрной колониальной периферии античного мира — от Сицилии и Южной Италии до Северного Причерноморья. Косвенным, но весьма существенным аргументом в пользу знакомства херсонеситов с орфизмом является находка в соседней Ольвии уникальных костяных пластинок с граффити V в. до н. э. Они убедительно интерпретированы А.С. Русяевой как краткие культовые изречения орфиков, произносимые, очевидно, при исполнении дионисийских обрядов. Наличие орфических обществ в Ольвии, сельское хозяйство которой было всегда связано с выращиванием преимущественно зерновых, позволяет с уверенностью предполагать, что подобные религиозные группы существовали и среди херсонесских виноградарей — почитателей Диониса.
Пытаясь представить религиозно-философские воззрения херсонеситов, не следует забывать, что Херсонес находился в тесных связях с основными экономическими, политическими, культурными и религиозными центрами греческого мира. Среди них выделяются Афины, которые с середины V в. до н. э. были средоточием литературной, философской и научной жизни Эллады; города Ионии и островов Эгейского моря, многие из которых (Эфес, Родос, Самос, Фасос, Книд), поддерживая с Херсонесом регулярные торговые контакты, переживали новый подъем в раннеэллинистическое время; многочисленные полисы Южного Причерноморья, особенно Гераклея, Синопа и Трапезунд. Документально засвидетельствованы прочные связи херсонеситов с главными общегреческими святилищами Аполлона в Дельфах и на Делосе. Причем на Делосе проводились специальные празднества — Херсонессии — на деньги, пожертвованные херсонесскими гражданами.
В Греции культовые празднества и церемонии всегда были связаны с театральными представлениями, литературными и спортивными состязаниями. На них присутствовали и принимали участие представители большинства городов-государств Средиземноморья и Причерноморья. Судя по многочисленным эпиграфическим данным, активное участие в этих торжествах принимали херсонеситы. Возвращаясь домой, они знакомили своих сограждан с последними событиями политической и культурной жизни греческого мира. Многое узнавали херсонеситы и от постоянно посещавших их город купцов и прочих чужестранцев.
2. Главные божества позднеантичного религиозного мировоззрения: бог-вседержитель, бог-спаситель, богиня-мать
Создание Александром Македонским огромной военной державы и ее раздел между полководцами — диадохами — привели к возникновению нескольких крупных эллинистических царств. В их состав входили как греко-македонские переселенцы, так и многочисленные группы местного полиэтничного населения. Нарушение старых общинных связей, преодоление былой полисной замкнутости, массовые переселения и широкое общение представителей разных народов с их своеобразными верованиями, представлениями и традициями не могли не привести к качественным сдвигам в сфере общественного сознания.
Вырванные из традиционной системы полисных связей, греки, оказываясь на службе у военачальников и царей, поселяясь в качестве колонистов на чужих землях, все более отходили от старых мифологических представлений, воспринимали восточные идеи и стремились переосмыслить собственно эллинские религиозно-философские традиции. В новых условиях человек уже не мог рассчитывать на помощь и солидарность со стороны сограждан. Он вынужден был всецело полагаться на собственные силы, удачу и благорасположение к нему влиятельных покровителей. При этом в новых городах — Александрии и Антиохии, Селевкии, Ктесифоне, Пергаме, Никомедии, Тигранокерте и других — встречались, конкурировали или помогали друг другу представители самых разных народов, для которых греческий язык стал средством общения.
Все это порождало два характерных для эллинистической, а затем и римской эпох взаимосвязанных культурных феномена: индивидуализм и космополитизм. Эквивалентами их на уровне религиозного мировоззрения становятся разнообразные культы бога-спасителя и бога-вседержителя, с которыми, как правило, сочеталось почитание символизирующего плодоносящие силы природы женского божества. На уровне массового сознания эти образы выступали в виде Бога-Отца, Бога-сына и Богини-матери, а в интерпретации позднеантичных философов, все более ориентировавшихся на идеи Платона, принимали облик Единого-Первобытия, Логоса как разумного, конструктивного, упорядочивающего, и Мировой Души как животворящего начал бытия.
1. Бог-отец, вседержитель. Образ единого высочайшего божества, творца и вседержителя мира имеет истоки в самых различных учениях восточносредиземноморского и переднеазиатского мира. Впервые к идеям монотеизма подошли египетские жрецы Мемфиса и Гелиополя еще в начале II тыс. до н. э. Тогда, после вторичного объединения городов-государств в рамках крупного централизованного государства (эпоха Среднего царства), разнообразные боги отдельных областей начинают приравниваться к древнему солнечному богу Ра, предстающему в облике Амона — покровителя ставших столицей всего Египта Фив. Как гласит текст того времени, «Трое богов — Амон, Ра и Пта — суть все боги. И нет ни одного подобного им. Тот, который Амон и который скрывает свое имя, с лица своего Ра и телом своим он Пта». В другом папирусе солнечный бог говорит о трех ипостасях следующее: «Я (бог) Хепра утром, Я (бог) Ра в полдень, Я (бог) Атум вечером». А в «Книге мертвых» находим следующие слова: «Я — Атум, будучи единым. Я — Ра при его первом восходе. Я, великий, создавший себя сам, создавший имя свое». Эти идеи, уходящие корнями еще в III тыс. до н. э., послужили основой для разработки в XIV в. до н. э. фараоном-реформатором Аменхотепом IV Эхнатоном последовательной монотеистической концепции, согласно которой существует лишь один бог Атон — творец мира и податель жизни, пекущийся о благе всех стран, народов и живых существ, символом которого выступает солнечный диск.
Как полагают многие ученые, идеи древнеегипетского монотеизма оказали мощное воздействие на становление религиозной доктрины иудеев, зафиксированной в Ветхом Завете. Согласно древнееврейскому вероучению, существует лишь один Бог — творец мира и всего живого, создавший человека по своему образу и подобию. Однако по сравнению с древнеегипетскими текстами в иудейской Библии подчеркивается не столько благотворное воздействие божества на природу (хотя и это также имеет место: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его возвещает твердь»), сколько акцентирует внимание на взаимоотношении отчаявшегося, низвергнутого в бездну страданий человека и всемогущего распоряжающегося его судьбою по собственному усмотрению Бога. Об этом говорят многие места «Книги псалмов», авторство которой в значительной части приписывается царю Давиду, «Притчей Соломоновых» и «Экклезиаста», восходящих якобы к царю Соломону, а также с предельным драматизмом — в «Книге Иова».
Невинно страдающий Иов говорит о Боге:
И мудрость, и мощь — все у Него:
у Него — совет, у Него — ум.
Что Он разрушит, не воздвигнется вновь;
кого Он заточит, не выйдет вновь.
Он сдержит воды — и придет сушь;
пустит — и они взроют прах.
Сила и удача — в руке Его;
Обман и обманувшиеся — во власти Его.
Созвучные мотивы всесилия Бога и ничтожества перед его волею одинокого, заброшенного в мир человека находим мы и в вавилонской культуре, самостоятельно пришедшей к пониманию верховного бога — Бел-Мардука — в качестве верховной универсальной мировой силы. Героя вавилонской поэмы (вероятно, прототипа библейского Иова), несмотря на его праведность, постигают всевозможные беды. Доведенный до отчаяния, он взывает к справедливости. Однако, как и в ветхозаветном тексте, авторы, защищающие неограниченное право божества поступать с человеком по собственному усмотрению, настаивают на том, что человек слишком мал, слишком ограничен в своем кругозоре, чтобы судить о божественных вещах:
Но что мнится похвальным тебе, столь ли угодно Богу?
Что сердце твое отвращает — быть может, пред Богом — благо?
Разум божий в глубинах неба кто может постигнуть?
Мысли божьи — что воды глубокие, кто может в них погрузиться?
Как видим, монотеистическая концепция, по сравнению с древним многобожием гораздо более логичная, неизбежно должна была возложить ответственность за социальную несправедливость, беды и страдания людей на самого единого бога-творца, что, в свою очередь, противоречило идее о доброте и благости этого бога. Такой нравственный аспект проблемы в некотором смысле снимался в древнеиранском зороастризме, объявившем мир полем битвы доброго бога Ахура-Мазды и демона тьмы Аримана, на которого, естественно, и списывались все горести и беды. Однако подобного рода дуалистическая доктрина заведомо ограничивала силы и возможности доброго начала.
Образ Бога Высочайшего, почитавшегося во всех областях позднеантичного мира, в том числе и в Херсонесе эпохи римского господства, во многом был связан с восточными влияниями, однако имел и глубокие корни в классической эллинской культуре. Уже милетские натурфилософы VI в. до н. э. — Фалес, Анаксимандр и Анаксимен — пытались осмыслить первооснову материального единства мира, пронизанного неким внутренним законом.
В учении Гераклита первооснова мира мыслится в качестве некоего внутреннего по отношению ко всему видимому миру огня, в себе самом являющимся разумом и смыслом, могущим быть высказанным, — Логосом, оформляющим мироздание. Согласно же Анаксагору, Ум и мельчайшие первоэлементы материального мира — гомеомерни — имеют прямо противоположную природу. «Он, — как сообщает Диоген Лаэртский, — первый поставил Ум выше вещества, следующим образом начав свое сочинение, написанное слогом приятным и возвышенным: «Все, что имеется, было совокупно, затем пришел Ум и установил в нем порядок». О том же пишет и Аристотель: «Анаксагор рассматривает Ум как орудие мироздания, и когда у него возникает затруднение, по какой причине нечто существует по необходимости, он ссылается на Ум».
В религиозных терминах эту же проблему пытался осмыслить поэт и мыслитель Ксенофан Колофонский, проповедовавший на рубеже VI—V вв. до н. э. по всей Ионии, Греции, Сицилии и Южной Италии идеи о том, что существует единый бог, «наилучший среди богов и людей», который «не похож на смертных ни телом, ни разумом, вечно пребывает в неподвижности и правит миром силой своего ума», «он весь — ум, разумение и вечность». Эти идеи развивал и его ученик Парменид, отождествлявший истинное — вечное и неизменное, противоположное видимому, непостоянному миру — бытие и мышление.
Со времен Сократа, Платона и Аристотеля идея единого бога, промыслителя и устроителя мира, все более утверждается в сознании образованных греков. Теперь они относились к старинным мифам о богах и героях как к увлекательным литературным сюжетам или аллегорически истолковываемым сказаниям. В диалоге «Софист» Платон утверждает: «Мы знаем, что и мы, и другие живые существа, и то, из чего произошло все природное, — огонь, вода и им родственное, — суть произведения бога, каждое из которых им создано». Он иронизирует над «убеждением и словами большинства» о том, что «все это природа порождает в силу какой-то самопроизвольной причины, производящей без участия разума». Созидательная деятельность бога красочно изображена Платоном в «Тиммее», где описывается, как Демиург (творец, созидатель) упорядочивает бесформенную материю и вкладывает в мировое тело наделенную умом душу.
Сходным образом и Аристотель рассматривал бога как мировой ум, организующий и приводящий в движение материю. «Деятельность ума, — писал философ в «Метафизике», — это жизнь, а бог есть деятельность; и деятельность его, какова она сама по себе, есть самая лучшая и вечная жизнь. Мы говорим поэтому, что бог есть вечное, наилучшее живое существо».
В течение последних веков до н. э. эти идеи становятся общеизвестными не только во всем греческом мире, но и широко распространяются как среди восточносредиземноморских народов, так и между образованными римлянами. Поэтому знакомство херсонеситов эллинистического времени с монотеистическими идеями греческих идеалистов IV в. до н. э. не вызывает сомнений.
Восточный религиозный монотеизм обращался прежде всего к миру человеческих чувств, порождая у верующих представление о всемогущем непознаваемом божестве, некоем иррациональном волевом начале бытия. Типичным примером такого представления о боге является образ древнееврейского Яхве, эмоционально относящегося к человечеству в целом и «избранному» им народу в частности, карающему, испытывающему и спасающему людей по своей воле. В какой-то мере эти черты можно проследить и в древнеантичных религиозных воззрениях. Однако в позднейшие века монотеистические идеи Ксенофана, Платона и Аристотеля, а также стоиков, в том числе и римских (Сенеки, Эпиктета и Марка Аврелия), рационалистичные в своей основе, имели гораздо более философский, нежели религиозный характер.
Философски образованные греки и римляне эпохи эллинизма и первых столетий существования Римской империи представляли верховного бога главным образом не как личностное, эмоциональное существо, а в качестве универсальной мировой закономерности, созидающей и поддерживающей порядок в космосе и государстве. Долг каждого человека состоит в служении этому божеству порядка, прежде всего честным выполнением общественных обязанностей в соответствии с социальным статусом индивида. Бог определяет, кому быть императором, сановником, военачальником, купцом, ростовщиком, землевладельцем, ремесленником, свободным крестьянином, арендатором или рабом, но каждый из них наилучшим образом обязан выполнять свой долг перед государством и божеством. Наиболее сильно эта идеология проявилась в римском государственном культе Юпитера Лучшего Величайшего, почитавшегося всюду, где стояли римские войска и действовала римская администрация, в том числе и в Херсонесе II в. н. э. В сознании подданных империи он сливался с греческим Зевсом и позднеегипетским Сераписом, выступал в виде высшей космической силы, устроителя мироздания, покровителя римской мировой державы. Как далекого, чужого, но всесильного бога власти, Юпитера почитали и входившие в состав империи подчиненные народы.
В эпоху поздней античности наряду с концепцией высшего божества развивались и идеи о бессмертии души. От лица Сократа Платон разрабатывает в «Федоне» и других диалогах понятие души как самодвижущего начала, в чем трудно не заметить развитие орфико-пифагорейской традиции. «Божественному, бессмертному, умопостигаемому, единообразному, неразложимому, постоянному и неизменному самому по себе в высшей степени подобна наша душа, — пишет афинский мыслитель, — а человеческому, смертному, постигаемому не умом, многообразному, разложимому и тленному, непостоянному и несходному с самим собою подобно — и тоже в высшей степени — наше тело».
В таком же духе Платон рассуждает о том, что «наши души до того, как им довелось оказаться в человеческом образе, существовали вне тела и уже тогда обладали разумом». Причем после смерти душам добродетельных людей «выпадает лучшая доля, а дурным — худшая». Душа достойного человека «уходит в подобное ей самой безвидное место, божественное, бессмертное, разумное и, достигши его, обретает блаженство, отныне избавленная от блужданий, безрассудства, страхов, диких вожделений и всех прочих человеческих зол, и — как говорят о посвященных в таинства — впредь навеки поселяется среди богов».
Во всех этих высказываниях ощущается не только переосмысленная орфико-пифагорейская концепция, но и слышны мотивы будущих, расцветших в первые века н. э. религиозно-мистических учений, среди которых важнейшую роль суждено было сыграть христианству.
2. Бог-сын, спаситель. В эпоху постоянных войн и Крушения сменяющих друг друга на территории Ближнего Востока мировых держав (Ассирийской, Ново-Вавилонской, Персидской, империи Александра и царств его полководцев, республиканского, а затем и императорского Рима), при разрушении прежних социальных связей и дискредитации традиционных верований и представлений человек ощущал себя все более одиноким и незащищенным перед внешними силами, за действиями которых, как казалось, стоит воля всемогущего бога. В такой ситуации естественным было появление идей о том, что в мире существует некая благорасположенная к людям сила, заботами которой, в конечном счете, будет восстановлена справедливость — на том или даже на этом свете. Этот близкий людям, небезразличный к их страданиям «добрый бог», не несущий ответственности за мировое зло, выступал в двух основных ипостасях: как справедливый судья загробного мира (что наиболее ярко проявилось в образе египетского Осириса) и как спаситель, который сокрушит силы зла и утвердит царство справедливости на земле (наиболее популярный образ у иудейских пророков). В равной мере обе эти функции приписывались ирано-малоазиатскому Митре, а впоследствии и христианскому богу-сыну, явившемуся на землю в облике Иисуса.
Важно подчеркнуть, что в древнеегипетской религии II—I тыс. до н. э. загробная участь усопшего и само его бессмертие строго связывались с уровнем его нравственности. Представшая перед Осирисом душа должна была доказать свою невиновность в сорока двух основных грехах, которые могут быть суммированы как убийство, воровство, ложь и особенно лжесвидетельство, супружеская измена, причинение ущерба ближнему, кощунство против богов и умерших. В этой концепции египтяне впервые в истории выразили ставшую много позднее краеугольной в христианстве и исламе (а также, независимо от ближневосточной традиции, — в индуизме, буддизме, джайнизме) идею, что судьба умершего всецело зависит от нравственного характера земной жизни.
Египетская концепция бессмертия души и обусловленности ее будущей участи предшествующими делами оказала значительное воздействие на орфико-пифагорейские воззрения древних греков. Впрочем, первые проникновения этих представлений к жителям Эллады должны быть отнесены, по всей видимости, к гораздо более раннему времени — к эпохе существования Крито-Микенской цивилизации II тыс. до н. э. Как можно предполагать, античные греки унаследовали от нее мифы о Миносе (легендарном царе Крита, ставшем судьею умерших), о местопребывании душ избранных на островах Блаженных или Елисейских полях, прообразом которых были «поля Иалу» египетских сказаний. Будучи издревле отождествляемым греками с Дионисом, а затем сего разнообразными восточными коррелятами (Дионисом-Сабазием, фригийским Аттисом, сирийским Адонисом) в условиях эллинистического Египта Осирис трансформировался в образ синкретического божества Сераписа, сочетавшего функцию верховного божества, бога-спасителя, судьи и владыки умерших. Однако этот культ имел всегда искусственный, государственный характер и не получил широкого распространения в массах. В сознании простого народа Египта и многих других стран античного мира Осирис вплоть до окончательной победы христианства оставался преимущественно богом загробного царства, обеспечивающим справедливое воздаяние и вечную жизнь после смерти.
Сходная, однако в значительной степени более интеллектуалистическая и элитарная концепция сложилась в Египте последних веков до н. э. и первых веков н. э. вокруг культа древнего бога знаний Тота. Он отождествлялся с греческим Гермесом и почитался в эпоху поздней античности под именем Гермеса Трисмегиста (Триждывеличайшего). Его адепты, развивая как древнеегипетские, так и греческие, дионисийские и орфико-пифагорейские традиции, стремились к овладению тайнами знания, позволявшими мистически воспринять этого бога и отождествиться с ним. В их среде развивается близкая по духу к орфизму и платонизму спиритуалистическая концепция, согласно которой души людей при рождении нисходят из лона божественного света во тьму материального мира и, приобретая тем самым телесность, утрачивают изначальное совершенство. Для спасения им нужно обрести истинное знание и, овладев соответствующей методикой медитаций и психотренинга, пробудить в душе полуугасшие искры света и воссоединиться с божеством. На этом пути Гермес Трисмегист помогает человеку достичь духовного познания (гносиса) собственной истинной сущности, тождественной божественному первоначалу бытия. Такая доктрина послужила основой многочисленных гностических учений I—II вв. н. э., распространенных в узком кругу разочарованных в жизни интеллектуалов больших средиземноморских городов. Эти учения в III в. развились в мистическую философию неоплатонизма.
Характерно, что оба греко-египетских синкретических бога — спасители душ умерших — Дионис-Осирис и Гермес-Тот — с точки зрения античного мировоззрения были сыновьями верховного бога греческого пантеона Зевса, тождественного римскому Юпитеру, Серапису птолемеевского Египта или месопотамскому Бел-Мардуку, которого все чаще именовали просто Белом (в Финикии — Ваалом); то есть Господом. При этом Дионис, равно как и другие его корреляты — боги умирающей и воскресающей растительности (Осирис, Аттис, Адонис, Сабазий), представал в образе страдающего, невинно убиенного, но вновь вернувшегося к жизни бога. Этому учили не только орфики или египтяне, но и священнослужители многих других культов. Так, во Фригии во время празднеств в честь Аттиса жрец обращался к толпам народа: «Утешьтесь, благочестивые, подобно тому, как спасен бог, спасетесь и вы!». Аналогичные заверения можно было слышать и в других областях Восточного Средиземноморья — от Египта до Фракии, от Сицилии до Армении и Месопотамии. Бог-отец властвовал в этом мире, а бог-сын обещал праведным бессмертие и блаженство на том свете, ссылаясь при этом на собственную трагическую участь.
Как видим, в эпоху эллинизма возникавшие независимо друг от друга или же находившиеся ранее в опосредованной связи культы умирающего и воскресающего божества природы начинают трансформироваться в некую синкретическую, единую по своей идейной сути, но облеченную в разнообразные мифологические сюжеты доктрину, согласно которой некое божество (в тенденции — сын высшего бога) устраивает души умерших на том свете.
Однако в условиях поздней античности в восточносредиземноморских царствах, а затем провинциях Римской империи, складывался и развивался другой тип образа бога-спасителя, призванного не столько обеспечить достойную участь душам умерших, сколько победить силы зла и утвердить царство добра и справедливости на земле. В эпохи общественных потрясений и бедствий рождалась надежда, что в облике победоносного царя в мир должен прийти посланец высшего бога и навести порядок, восстановить справедливость. Такие помыслы содержатся уже в восходящем к первой половине II тыс. до н. э. древнеегипетском тексте, называемом «Пророчество Нефертити».
Наибольшей остроты идея пришествия божьего посланца, Спасителя-Мессии, достигает у древнееврейских пророков во второй четверти I тыс. до н. э., когда оставшиеся после распада державы Соломона два маленьких царства — Израиль и Иудея — оказались перед лицом смертельной угрозы со стороны могущественных военных деспотий Месопотамии — Ассирии и Вавилонии, а правящая верхушка, все более отходя от заповедей традиционного права (освященных авторитетом Моисея и самого Яхве), начинает беззастенчиво угнетать простой народ и воспринимать чужеземные культы. Осознавая обреченность своих государств в борьбе с многократно превосходящим по силе противником и понимая неисправимость душ власть имущих и богачей, но в то же время уповая на божью милость и справедливость, пророки возвещали народу о грядущем суде над угнетателями и пришествии царства божьего. Как пишет С.С. Аверинцев, «в кризисную эпоху пророков этот эсхатологический оптимизм, умозаключавший от бедственного настоящего к благополучию будущего… приобретает вполне сложившийся облик».
Наиболее ярко этот комплекс идей представлен в «Книге пророка Исайи», состоящей, как полагают исследователи, из объединенных в рамках единой традиции разновременных текстов, связанных общей темой — пророчеством о последних днях мира, приходе Мессии, божьем суде и торжестве справедливости на земле. Вот как рисуются последние времена:
Земля опечалена, ослабевает; вселенная изнемогает, ослабевает; изнемогли вельможи народов земных.
И земля была осквернена жителями своими; потому что они преступили учение, изменили закон, разрушили завет вечный.
Поэтому проклятие пожрало землю, живущие на ней понесли наказание; поэтому жители земли сожжены, и осталось немного людей.
Но затем, после наказания, «Господь Саваоф устроит для всех народов пир>.
И смерть будет уничтожена навеки; и Господь Бог отрет слезы со всех лиц и изгладит срам народа своего со всей земли…
И в тот день скажут: вот он, Бог наш; мы надеялись на него, и Он спас нас…
В тот день «мертвые оживут…, мертвые воскреснут», но «владыки», творившие зло, «умерли, не оживут; они мертвы, не воскреснут; потому что Ты наказал и истребил их, и изгладил всякую память о них». Эти же мотивы отчетливо выражены и в «Книге пророка Даниила», автор которой предсказывает, что грядет «сын человеческий», царство которого будет вечным и справедливым. Об этом же гласили слова, приписывавшиеся пророку Иезекиилю: «Близок день Яхве, день мрачный; година народов наступает», а согласно Иеремии, в день пришествия Мессии Яхве заключит со своим народом новый завет и установит царство справедливости.
Идеи мессианизма, вдохновлявшие иудейский народ в годы героической борьбы за независимость против Ассирии и Вавилонии, лежали в основе надежд различных иудейских религиозных партий I в. до н. э. — I в. и. э., особенно ессеев и фарисеев, а также общин первых христиан, еще не отпочковавшихся полностью от иудаизма.
В основе религиозных представлений ессеев, известных также под именем кумранской общины, лежало во многом навеянное древнеиранскими зороастрийскими воззрениями учение о борьбе «сынов света», праведных и благочестивых, и «сынов тьмы», насильников, захвативших власть на земле. Опираясь на традицию пророческой литературы, ессеи уповали на скорое пришествие Мессии. Ожидая его, они уходили от «царства зла», подчиненного иерусалимскому жречеству и иноземным властителям, в пустыню, где на безлюдном берегу Мертвого моря и организовали свои общины. В одном из их текстов, посвященных приходу Мессии, говорится: «в руки бедняков передашь ты врагов всех стран, в руки склоненных к праху (передашь их), чтоб унизить могущественных из народов, чтоб воздать воздаяние нечестивцам».
Сходные, хотя и не в столь социально окрашенной форме представления содержались и в записанном позднее в Талмуде учении фарисеев о грядущем приходе Мессии: «Всесвятой пригласит все народы к себе и будет их беспрестанно судить по законам божьим». О том же говорится и в Евангелии от Матфея: «Когда придет сын человеческий…, тогда сядет на престоле славы своей. И соберутся перед ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов».
Наряду с иудейским, а вероятно, и раньше его, эсхатологическое учение о конце света и о страшном суде развивала и зороастрийская религия древних иранцев. В поздних частях Авесты, священной книги зороастрийцев, говорится о неизбежном приходе в мир спасителя — Соашинта (по некоторым мифам — потомок Зороастра или его новое воплощение), который сокрушит духа зла и установит вечное царство правды и справедливости. В зороастризме же была разработана и концепция различной загробной участи людей: одни, благочестивые и добродетельные почитатели Ахура-Мазды, после смерти попадают в его светлое царство — рай, тогда как нечестивцы и грешники оказываются в аду, а затем, после пришествия спасителя, окончательно истребляются вместе с Ариманом — «князем тьмы».
Эти воззрения вошли в систему митраизма Она возникла после утверждения греко-македонского господства в Передней Азии как своего рода реакция воинственно настроенной части малоазийско-иранских народов против власти иноверцев. В древних текстах Авесты Митра не фигурирует — его присутствие нарушало бы последовательно дуалистическую концепцию ортодоксальной зороастрийской доктрины. Однако среди народа и особенно военной аристократии он, видимо, пользовался большой популярностью, так что персидский царь Артаксеркс II в первой половине IV в. до н. э. узаконил его культ официально. В позднем варианте Авесты Митре уже посвящена обширная молитва, где он назван созданьем Ахура-Мазды, но столь же достойным почитания, как и сам создатель.
Особым почитанием пользовался Митра при дворах восточных династий эллинистического времени, возводивших свое происхождение к Ахеменидам. Это непосредственно отразилось в необычайной популярности имени «Митридат» у правителей Понтийского царства (здесь из одиннадцати владык его носили семеро, считая и основателя династии правителя Киоса), Парфии, Армении, Коммагены и др. Однако в государствах Малой Азии это не был уже собственно культ иранского Митры. Он вобрал в себя элементы фригийской религии Матери богов Кибелы и ее мужских коррелятов (Аттиса, отождествленного с Дионисом Сабазия и др.)» идеи позднегреческой философии, в частности стоический культ мужества, долга и бескорыстной, самоценной добродетели, столь близкий исконному нравственному образу этого бога. Митра приобрел в соответствии с нормами эллинской религии устойчивый иконографический облик — прекрасного юноши, убивающего быка, который символизирует злое начало мироздания. Так Митра становится типичным синкретическим божеством эллинистического времени, сочетающим в себе черты иранских, малоазийско-кавказских и греческих верований.
Уже во II в. н. э. Митра становится популярнейшим богом солдатских масс. С конца того же столетия, со времен правления Коммода и особенно династии Северов, адептами этого божества выступают сами августейшие особы, их двор, военачальники и чиновники различных рангов. По мере того как приобретение власти в империи перестает зависеть от римского сената, а всецело определяется настроениями легионов и непредсказуемыми перипетиями борьбы различных претендентов на престол, в сознании масс все более укрепляется мысль о воздействии солнечного божества — Гелиоса-Митры — на результат. Поэтому победитель, утверждающийся в Риме, рассматривается как получивший власть от светоносного бога-воителя. Императоры принимают в свой титул его эпитеты «непобедимый» и «вечный», объявляют себя его верховным жрецом (Гелиогабал) или даже земным воплощением бога (Аврелиан), Фактически на несколько десятилетий в III в. солнечный бог солдат и «солдатских» (зачастую даже по происхождению) императоров становится верховным божеством империи. Даже в IV в., когда верховная власть все более тесно связывает себя с христианской церковью, культ солнечного бога не только сохраняется и признается еще Константином (воздвигшим в своей новой столице статую Гелиоса), но на несколько лет в эпоху правления Юлиана вновь становится религией императора и его окружения.
Конечно, Митраизм как широко распространенная и влиятельная религиозная доктрина имел детально разработанное вероучение и весьма сложный ритуал. К сожалению, о них мы имеем лишь самые общие представления. Известно, что, как и зороастрийцы, митраисты признавали две основные действующие в мире силы: воли или субстанции — высшее божество, фактически восходящее к иранскому Ахура-Мазде, но в греко- и латиноязычной среде подданных империи обычно называвшееся Временем, Кроносом или Сатурном, порождающим остальных космических богов и злое начало — Аримана-Плутона с ратью демонов. Посредником между высшим богом и людьми является именно Митра — бог-борец и заступник, совершающий ряд подвигов (в частности, убивающий космического свирепого быка) и затем удаляющийся на небо, где и становится сопричастным солнцу. Но и оттуда Митра продолжает помогать людям в борьбе со злом, особенно после смерти, когда (и в этом сюжете трудно не заподозрить вавилонскую образность) злые и добрые силы борются за душу усопшего. Однако Митра не только обеспечивает благую участь своим адептам, но и, в конце концов, должен вернуться в мир, дабы огнем искоренить зло и возродить вселенную в чистоте и свете.
Достаточно характерным был и митраистскйй культ, к которому могли быть причастны исключительно мужчины. Посвящение сопровождалось специальными обрядами, во многом восходящими к мистериям малоазийских, в частности фригийских, связанных с почитанием Сабазия и Аттиса, культов. Верующие принимали крещение водою или кровью, причащались (как сторонники ряда древнегреческих культов и христиане) хлебом и вином, справляли совместные тризны. Богослужение в специально оборудованных естественных или искусственных пещерах, где заднюю стенку занимало культовое изображение Митры, совершалось при факелах, светильниках и лампадах, причем культ света играл особую роль в погребальном ритуале.
Как видим, вплоть до разработки христианами концепции Иисуса Христа как сына божия, явившегося в мир и пострадавшего за людей Спасителя (Мессии), образ Митры наиболее полно совмещал обе основные функции складывавшегося образа сына-бога — покровителя усопших праведников, будущего судьи страшного суда. Однако слабой стороной митраизма было то, что он пренебрегал женским божеством — богиней-матерью, столь издревле, со времен каменного века почитаемой во всем переднеазиатско-средиземноморском регионе.
3. Богиня-мать. Образ богини-матери, персонифицирующий животворящие, плодоносящие силы природы. был связан с традиционными земледельческими культами, с обрядами по обеспечению продолжения рода. Ее культ выступал обязательным компонентом всякой (за исключением разве что иудейской, в том виде, как она представлена в Ветхом Завете) религии древности. Наиболее популярными его формами были Кибела — великая фригийская мать богов, отождествлявшаяся с прародительницей греческих богов Реей; богиня растительности и любви семитских народов Передней Азии, почитавшаяся как Иштар в Месопотамии и как Астарта — прототип Афродиты — в Сирии и Финикии; египетская Изида, подательница жизни и спасительница своего растерзанного мужа Осириса. Характерно, что у всех этих богинь были мужские корреляты. Так, с Кибелой был тесно связан Аттис, или Сабазий, с Иштар — Даммузи, с Астартой — Адонис, Таммуз, или Баал. Все они по той или иной причине погибали и так или иначе воскрешались при помощи богини природы.
Плодоносящие силы природы, как уже отмечалось, олицетворяли и различные древнегреческие, а также отождествлявшиеся с эллинскими образами италийские богини: Гея и Рея, Деметра (соответствовавшая италийской Церере), Артемида (Диана) в разнообразнейших ее ипостасях, Афродита (Венера) и, безусловно, супруга Зевса (Юпитера) — Гера (Юнона). Все они так или иначе были связаны с культом плодородия. С незапамятных времен, по мере расширения связей как между самими греческими общинами, так и между эллинами и соседними народами они начали сливаться в сознании верующих или, уже главным образом в эллинистическое время, сознательно отождествляться мифографами и жрецами. О них повествовали многочисленные и самые разнообразные мифы, однако функции, которые им приписывали, были весьма сходны: обеспечение обильного урожая и продолжение рода.
Сходство основных функций при все усиливающемся восприятии мифических сказаний как символических образов или, напротив, забавных развлекательных сюжетов приводит к слиянию традиционно греческих и восточных богинь. Еще более это усиливалось в позднеэллинистическое время, когда под воздействием становившейся все более популярной философии Платона Великая Богиня природы уже не связывалась с каким-либо одним из своих образов. Она представлялась как некая мировая душа, одухотворяющая все живые существа и неким мистическим образом присутствующая в них. В платоновском «Тимее» изложена теория космоса, управляемая идеями и мировой душой, обладающей самостоятельным существованием, но пронизывающей весь мир. Дальнейшую философскую разработку эта концепция нашла у неоплатоников, главным образом у Плотина и его соученика, крупнейшего раннехристианского мыслителя Оригена (III в. н. э.). Но на уровне «обыденного сознания», непосредственно связанного с образно-символическим строем древних мифов, идея Великой Богини как животворящего начала мироздания прекрасно выражена в литературе первых веков н. э., особенно у Апулея в «Золотом осле».
Превращенный в осла за свое легкомыслие и распутство главный герой, не теряя надежды вновь обрести человеческий облик, так обращается к «царственному лику священной богини»: «Владычица небес, будь ты Церерою, благодатною матерью злаков…, будь ты Венерою небесною, что рождением Амура в самом начале веков два различных пола соединила и, вечным плодородием человеческий род умножая, ныне на Пафосе священном, морем омываемом, почет получаешь; будь сестрою Феба (т. е. Дианой-Артемидой)…, будь Прозерпиною… Как бы ты ни именовалась, каким обрядом, в каком бы обличии не надлежало чтить тебя, — в крайних моих невзгодах ныне приди мне на помощь…».
А вот что, по мнению Апулея, должна сказать о себе своим адептам эта великая богиня: «Вот я пред тобою, Луций, твоими тронутая мольбами, мать природы, госпожа всех стихий, изначальное порождение времени… Единую владычицу, чтит меня под многообразными видами, различными обрядами, под разными именами вся вселенная. Там фригийцы, первенцы человечества, зовут меня Пессистунской матерью богов (т. е. Кибелой), тут исконные обитатели Аттики — Минервой кекропической (т. е. Афиной в ее облике покровительницы земледелия), здесь кипряне, морем омываемые — Пафийской Венерой (Афродитой, отождествленной с финикийской Астартой), критские стрелки — Дианой Диктиннской (Артемидой), трехъязычные сицилийцы — Стигийской Прозерпиной (Корой-Персефоной подземного царства), элевсинцы — Церерой (Деметрой), древней богиней, одни — Юноной (Герой), другие — Беллоной (древнеиталийская, сабинская богиня войны, отождествленная с малоазийским лунным божеством), те — Гекатой (греческая богиня, очевидно, восточного происхождения, близкая Персефоне, Артемиде и Селене, богине Луны), эти — Рамнузией (Немезида, богиня справедливого возмездия), а эфиопы, которых озаряют первые лучи восходящего солнца, арии и богатые древней ученостью египтяне почитают меня так, как должно, называя настоящим моим именем — царственной Изидой».
Заключение Апулея достаточно красноречиво: действительно, связанная с культом возрождающегося Осириса и побеждающего зло (Сета) их сына — Гора, Изида была давно знакома грекам, а в эпоху эллинизма она становится самым почитаемым женским божеством от Южной Италии и Нижнего Дуная до Ирана, до Бактрии и Индии. В эллинистическом Египте она почиталась как супруга верховного бога Сераписа, а в Риме ее официальное признание относится к I в. до н. э. В эпоху империи ее культ пользовался покровительством государственной власти и распространялся везде, где существовало римское владычество, и даже на землях народов, оказавшихся в орбите культурного влияния позднеантичной цивилизации. Так, например, несколько лет назад статуэтка Изиды была найдена при раскопках Херсонеса. Известны они даже на территории Правобережной Украины в слоях II—III вв. н. э., когда здесь были распространены памятники Черняховской культуры.
Однако для малоазийских народов и издревле связанных с ними понтийских греков в эллинистическое и раннеримское время более характерным было почитание богини плодоносящих сил природы в образе матери богов Кибелы. В Херсонесе ее культ был достаточно широко распространен, но главная роль в юго-западном Крыму по-прежнему принадлежала Деве-Артемиде. Впрочем, как видно из приведенного выше текста Апулея, в первые века н. э. в различных местах античного мира фактически почитали единое женское божество, одухотворявшее мир, признавая, что различные древние богини являются лишь его образами.
Как видим, для позднеантичного религиозного сознания было характерно почитание трех основных божественных сущностей, в той или иной форме соотносимых друг с другом. Развитие религиозно-философской мысли неумолимо шло в сторону их все более тесного сближения, вплоть до частичного отождествления. Все более утверждалась идея единства мировой субстанции, персонифицирующейся в образе высшего бога или богини-матери, воздействующих, непосредственно или чаще через своих посланцев, на земной мир. Это мировоззрение, оформляющееся в самых разнообразных философско-мистических концепциях первых веков н. э., противоречиво уживалось с сохранявшимися повсеместно старыми культами и обрядами, которых по традиции придерживались жители каждого античного города и деревни. В каждой провинции и области позднеантичного мира, будь то Египет или Галлия, Сирия или Испания, Греция, Северная Африка, Малая Азия, Балканы или юго-западный Крым, общие тенденции реализовались в контексте традиционных для данной территории верований, мифов и представлений, в условиях специфического для данного региона взаимодействия местных традиций и многообразных идейных влияний со стороны.
3. Верования херсонеситов в первые века нашей эры
На протяжении всей эпохи римского господства в южном Крыму в Херсонесе, как показал В.Ф. Мещеряков, в основном сохранялся традиционный городской пантеон в том виде, как он сложился еще в эллинистическое время. Во главе его стояла богиня Дева, образ которой объединил черты Артемиды, Ифигении и Тихе — богини судьбы. Дева являлась постоянной покровительницей и защитницей города, с ней было тесно связано божество Херсонас, олицетворявшее гражданскую общину полиса. Кроме них горожане почитали и других персонажей общегреческого пантеона: Зевса, Гермеса, Афродиту. Однако в первые века н. э. заметен упадок официальных культов таких богов, как Геракл и Аполлон, а также Диоскуров и многих других, что справедливо связывается исследователями со все углублявшимся кризисом полисной идеологии.
Обратной стороной этого процесса было расширение круга частных культов, справлявшихся не всей общиной, а отдельными семьями или религиозными кружками. Они были связаны, как правило, с почитанием иноземных, имевших обычно синкретический характер божеств — Юпитера Лучшего Величайшего, почитавшегося римскими военнослужащими, фригийско-фракийского Сабазия, отождествляемого с Дионисом, абстрактного безымянного Бога Высочайшего, Митры, Кибелы и Изиды. При раскопках города и некрополя неоднократно встречались их статуэтки, рельефные изображения и связанные с ними посвятительные надписи. Уже одно это говорит о важных переменах в мировоззрении граждан, которые становились все более безразличными к образам своих традиционных богов и искали новые объекты поклонения.
При рассмотрении материалов погребений наиболее очевидны изменения в религиозном сознании херсонеситов при переходе от эллинистического к римскому времени. Для первых веков н. э. характерно появление особой заботы о судьбе умерших, что было связано с упрочением веры в бессмертие души и развитием культа божественных сил, обеспечивающих благую участь усопшего в загробном мире. Археологически это находит выражение в массовом возведении дорогостоящих склепов и гробниц, в сюжетах росписи их стен и в обилии сопроводительного инвентаря, имеющего отчетливо выраженный магический смысл.
Один из херсонесских склепов позднеантичного времени
Склепы с нишами-лежанками распространяются в некрополях Северного Причерноморья на рубеже и в первые века н. э. Установлено, что сама идея подобного рода конструкции погребального сооружения была воспринята припонтийскими греками от жителей Малой Азии, где аналогичные склепы известны с VI в. до н. э. Появление и распространение таких камерных погребальных сооружений в некрополях северопричерноморских городов, в том числе и в Херсонесе, связано с целым рядом причин. Среди них в первую очередь следует назвать не только рост благосостояния социальных верхов в сравнительно благополучную эпоху римского владычества в Причерноморье, но и все большую переориентацию общественного сознания в сторону проблем загробного существования души, происходившую при все усиливающемся (по мере укрепления экономических и политических связей между городами северного и южного берегов Понта) воздействии религиозных представлений населения малоазийских областей. Со времен Митридата VI (первая половина I в. до н. э.), в условиях синтеза элементов греческих, анатолийских и иранских воззрений все более стирались различия в мировоззрении эллинского и в той или иной степени эллинизированного населения подвластных Понтийскому царству, а затем и Риму областях Причерноморья.
Характерными чертами многих склепов Херсонесского некрополя, как и некрополей других причерноморских, балканских и малоазийских городов первых веков н. э., являются красочные картины вознесения крылатым гением души умершего. О том же говорят многочисленные рельефы, на которых представлены сцены загробной трапезы — пира, где усопшие вкушают фрукты и вино. С помощью последнего во время дионисийских празднеств человек приводил себя в состояние экстаза и таким образом сливался с божеством. По сравнению с эллинистической эпохой в первые века н. э. в погребениях происходит резкое увеличение посуды, предназначенной для еды и особенно для питья. Обычными становятся кувшины и кубки различных типов, на корпус которых порою наносились призывы пить и радоваться, аналогичные тем, которые восклицались на празднествах Диониса.
Но если связанные с идеей загробного существования орфико-дионисийские элементы погребального обряда имели в Херсонесе местные корни, то наблюдающаяся в первых веках н. э. традиция проникновения в погребальный ритуал культа мирового огня и божественного света имеет в своей основе восточные, главным образом иранские, зороастрийско-митраистские воззрения. С конца II в. в составе погребального инвентаря херсонесского некрополя резко увеличивается количество светильников. В некоторых склепах их насчитывают десятками. Во всех восточных религиозных учениях огонь, свет и светильники играли важную роль, а в древнеиранских обрядах культу огня придавалось ведущее, определяющее значение.
Вознесение крылатым гением душ усопших. Из росписей позднеантичного херсонесского склепа
Почитание огня и светильников было широко распространено в Каппадокии и других областях Малой Азии. Вместе с тем огонь рассматривался и некоторыми греческими философами (начиная с Гераклита) как божественный элемент, к которому, по мнению стоиков, после смерти должны были вернуться души умерших. Определенную роль огонь играл в мировоззрении орфиков, именовавших посвященных факелоносцами Диониса.
Включение города в сферу римской политики, развитие экономических связей с соседними провинциями, серьезные сдвиги в социальных отношениях и политической жизни города при массовом притоке выходцев из малоазийских и балканских областей, а также при наличии в городе солдат-фракийцев, римских военнослужащих и членов их семей определяло характер развития религиозного мировоззрения херсонеситов. Оно отличалось взаимодействием традиционно греческих, в том числе и дионисийско-орфических воззрений, с малоазийско-иранскими, главным образом митраистскими, и официально римскими, идейными направлениями, а также со многими другими религиозно-мистическими воззрениями самого разнообразного происхождения. При этом в Херсонесе, как и в других античных городах первых веков н. э., религиозные искания концентрируются преимущественно вокруг трех синкретических фигур: верховного бога-вседержителя, бога-спасителя, посредника между высшим божеством и земным миром, и богини плодоносящих сил природы.
Распространение культа «Бога Высочайшего», не имеющего определенного имени, было связано с синкретизацией образов глав греческого и римского пантеонов — Зевса, почитавшегося самими херсонеситами, и Юпитера Лучшего Величайшего — верховного бога Римской империи, с таинственными верховными божествами восточных религий, среди которых особенно выделялся иудейский «единый» и «незримый» Яхве.
Во многих малоазийских и херсонесских надписях III в. часто встречается посвящение «богу» без каких-либо его определений. Известны также анатолийские посвящения богу-заступнику, богу справедливому, богу высочайшему. Как полагает Е.С. Голубцова, во всех этих эпитетах отмечаются определенные качества абстрактного божества, не имеющего уже никакого конкретного имени. Подобного рода посвящения нет оснований связывать с христианскими воззрениями как таковыми. Однако в них, как и в христианских текстах того времени, отчетливо проступает общая для всей поздней античной синкретической религиозности тяга к монотеизму.
В условиях идейных исканий первых веков н. э. образы бога высочайшего и бога-заступника, бога-спасителя тесно переплетались, а порою, вероятно, и сливались в некий универсальный образ бога как такового. Однако в аспекте заупокойного культа его образ в сознании херсонеситов складывался из черт Диониса-Сабазия и, очевидно, светоносного Митры. Погребальный обряд сочетал орфико-дионисийские и малоазийско-митраистские черты, вошедшие частично и в символику христианского культа (свечи, причащение вином, символы чаши и виноградной лозы и др.). Как и в христианстве, в синкретических верованиях основной массы жителей причерноморских городов III в. единство и одновременное с ним различие бога-высочайшего и бога-спасителя могло осмысливаться при помощи образов «отца» и «сына», прототипами которых в данном случае должны были быть Зевс и Дионис. Однако с Сабазием на Балканах и в Малой Азии, равно как и во всем Причерноморье, отождествлялся и Зевс, и Дионис. Подобного рода алогичности были присущи позднеантичному синкретизму в целом, но, очевидно, слабо осознавались на уровне бытовой религиозности. Формами их преодоления в III—IV вв. стали философия неоплатонизма и вырабатывавшаяся на вселенских соборах догматика ортодоксального христианства, синтезированные в неоплатонической теологии ранневизантийского православия, провозгласившей «неслиянность» и «нераздельность» ипостасей христианской троицы: бога-отца, бога-сына и святого духа.
Третьим универсальным для позднеантичного синкретизма и распространенным в греческих городах Северного Причерноморья образом было женское божество плодоносящих сил природы, сочетавшее черты Кибелы, Деметры, Артемиды, Изиды, Афродиты и прочих богинь древних пантеонов. В Херсонесе великая богиня по устоявшейся традиции почиталась как Дева-Артемида. Однако в частных культах первых веков н. э. все большую роль начинает играть Кибела, почитающаяся как «мать богов» — «богородица». В этой же роли издревле выступала и Изида — мать побеждающего злые силы Гора. Широчайшее распространение культа богини-матери во всем позднеантичном мире предопределило превращение образа Марии, матери Иисуса, в главный объект поклонения византийского христианства как заступницы людей перед богом.
Религиозное сознание, особенно на уровне необразованных масс, в своем движении меньше всего следует логике собственного вероучения, определяясь и направляясь эмоциями и связанными с ними устойчивыми ассоциациями образов. Среди последних в наследство от поздней античности раннесредневековому христианству достаются пары отца-вседержителя и сына-спасителя, связанного с идеей смерти и воскресения, и богини-матери с младенцем на руках, призванным победить зло и восстановить попранную справедливость. Функционально бог-сын и бог-младенец по сути дела идентичны, и религиозное сознание легко отождествляет их, наполняя и подменяя ими образ распятого во времена правления Тиберия иудейского проповедника Иисуса из Назарета.
Как видим, идейно-образный строй синкретического религиозного мировоззрения херсонеситов первых веков н. э., казалось бы, благоприятствовал восприятию христианского вероучения, соприкасаясь с последним в ряде существенных положений. Однако в неменьшей степени он создавал почву и для распространения в среде горожан митраизма или, скажем, пантеистической религии Изиды. Если мы сопоставим социально-экономические и политические условия жизни Херсонеса, его этнический состав и мировоззрения его граждан римского времени с той средой, где до эпохи правления Константина зарождалось и распространялось христианство, то увидим, что они были во многих моментах принципиально различными.
Утверждение христианства в Херсонесе, средневековом Херсоне — Корсуни
1. Проникновение христианства в юго-западный Крым
В 17-й главе Апокалипсиса описывается гибель «великой блудницы», с которой «блудодействовали цари земные» и которая «упивалась кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых». Автор предсказывает, что «прийдут на нее казни, смерть и плач, и голод, и будет Сожжена огнем». Здесь же дается и расшифровка аллегорического образа: «И сказал мне ангел: чего ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего ее, имеющего семь голов и семь рогов». «Здесь ум, имеющий мудрость. Семь голов суть семь гор, на которых сидит жена». Безусловно, жителям империи было ясно, о ком идет речь в «Откровении Иоанна». Сквозь библейскую символику и прозрачные намеки рельефно проступает образ Рима — непобедимого и ненавистного порабощенным жителям провинций «вечного города», выросшего на семи холмах над Тибром.
Что же вызвало у автора этого пророчества такую ненависть, которую разделяли, по всей видимости, не только христианские общины, членам которых и адресовалось послание, но, пожалуй, все угнетенные массы империи?
«Римское завоевание, — писал Ф. Энгельс, — во всех покоренных странах прежде всего непосредственно разрушило прежние политические порядки, а затем косвенным образом и старые общественные условия жизни. Разрушило, во-первых, тем, что вместо прежнего сословного деления (если не касаться рабства) оно установило простое различие между римскими гражданами и негражданами…; во-вторых, и главным образом, — вымогательствами от имени Римского государства… Наконец, в-третьих, римские судьи повсюду выносили свои решения на основании римского права, а местные общественные порядки объявлялись тем самым недействительными».
Отчужденность широких масс от участия в общественных делах, разочарование в жизни и неверие в возможность ее улучшения собственными силами при неизменном желании найти какой-то выход из череды повседневных страданий и создавали психологическую атмосферу ожидания скорого (желанного!) конца света, страшного суда и справедливого воздаяния. Не только необразованные низы общества, жадно ловившие слова проповедников о том, что именно им завещано царство божие, но и многие разочаровавшиеся в традиционных социально-этических ценностях и не нашедшие утешения в противоречащих друг другу построениях философских школ интеллектуалы уповали на чудо, на приход в этот мир судящего и карающего божества.
В условиях Римской военно-бюрократической империи традиционные ценности классического полисного строя, равно как и патриархально-консервативных восточных обществ, вошедших в ее состав, были принципиально неспособны удовлетворить духовные запросы лишенных мировоззренческих ориентиров людей. С усилением социально-экономического неравенства, пауперизации и политического бесправия, наиболее явственно проявляющихся в крупных административных и торгово-промышленных городах Средиземноморья (в самом Риме, Александрии, Антиохии, Кесарии, Коринфе, Эфесе, Карфагене и др.), сознание «униженных и оскорбленных» вырабатывает свою идеологию, альтернативную в существеннейших аспектах той, которая была характерна для представителей официального Рима. Мирские ценности, столь характерные для классической античной культуры, резко противопоставляются божественным идеалам. В соборном послании Иоанна Богослова читаем:
Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. И все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордыня житейская, не есть от отца, но от мира сего.
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю божию пребывает во век.
В такой обстановке раннее христианство устами апостола Павла призывает своих адептов к сознательному отказу от ценностей «века сего»:
Итак, умоляю вас, братья, милосердием божим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля божия, благая, угодная и совершенная.
В отличие от идеала гармонии классической античности вера противопоставляется рациональному познанию, дух — бренной плоти, всеблагий бог — порочному миру. Так же социальная ущербность, нищета, убожество, претерпение страданий превозносятся над знатностью, богатством, социальным престижем, мирской властью. Высшей ценностью объявляется любовь духовная и жертвенная — к богу и ближним, не имеющая ничего общего с телесным влечением. Вот как пишет Павел:
Посмотрите, братья, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильных; и незнатное мира и униженное и ничто не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее — для того чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом.
Подобного рода идеи могли порождаться лишь обществом, расколотым на не имеющие общих ценностей и идеалов антагонистические группы в тех условиях, когда угнетенные разуверились в возможности изменить свое положение к лучшему какими-то насильственными средствами. Выходом для рабов, городского плебса и неимущих деклассированных интеллигентов могла быть лишь смена ценностей и идеалов, отказ от авторитета морали господ и постулирование положения о том, что именно «сирые и убогие», уповающие и немудрствующие, непричастные к власти, богатству, чуждые ощущения собственного превосходства и есть угодные богу, а посему — избранные им.
В этом контексте даже призывы к покорности и послушанию, любви к мучителям и угнетателям приобретают совершенно новый смысл возвышения униженных над унижающими их, ощущения гонимыми своего абсолютного превосходства над гонителями, вера в то, что эти последние, осудившие их на земле на временные муки, в день страшного суда будут осуждены на муки вечные. В этом смысле проповедовавшаяся ранними христианами беспредельная любовь ко всем ближним, к угнетателям и мучителям была фактически иновыражением их бесконечной ненависти к окружавшему их миру страданий вообще и к «сильным мира сего» в частности.
А теперь посмотрим, могли ли быть подобного рода настроения в сколько-нибудь значительном масштабе распространены в Херсонесе первых веков н. э. В отличие от основной массы средиземноморских центров городу на протяжении всего эллинистического и даже римского времени удавалось сохранять типичный полисный уклад жизни, предполагающий экономическую автономию и гражданское самоуправление. В основных чертах Херсонес сохраняет старую конституционно закрепленную государственную систему и даже римлянами признается (пусть и номинально) свободным городом.
При Веспасиане римские власти, судя по некоторым косвенным данным, готовились включить город в состав империи, однако уже его сын и преемник Тит отказался от этого плана. Сравнительно спокойная и благополучная эпоха правления династии Антонинов (II в. н. э.) способствовала росту благосостояния основной массы горожан. С начала III в., когда в Северном Причерноморье активизируются варварские народы, разоряющие Ольвию, Тиру и Боспорское царство, римское военное присутствие служило гарантией безопасности херсонеситов, так что сама империя едва ли ассоциировалась в их сознании с идеей о мировом зле. Во внутреннюю жизнь гражданской общины римские офицеры практически не вмешивались, хотя временами, как о том свидетельствует одна из дошедших до нас надписей, между горожанами и военнослужащими и могли возникать конфликты.
Несмотря на бесспорное развитие имущественного неравенства и общей аристократизации системы полисного самоуправления, основная масса городских жителей, судя по раскопкам жилых кварталов и некрополя, представляла собой людей среднего достатка. Они имели земельные участки-клеры и занимались в свободное от сельскохозяйственных работ время в какой-либо ремесленной, промысловой или торговой сфере деятельности. На основании археологических материалов нельзя сделать вывод о массовой пауперизации рядовых граждан, как то наблюдалось в большинстве крупных средиземноморских городов. В отличие от последних с их смешением различных этнических, культурных и религиозных компонентов при высоком проценте рабов и вольноотпущенников в Херсонесе на протяжении всей его истории абсолютно преобладал изначальный греческий субстрат, а рабов было сравнительно немного.
Оказавшиеся на границе с агрессивными варварскими народами херсонеситы, постоянно нуждавшиеся в военной помощи со стороны империи, должны были остро ощущать свою причастность к античной цивилизации, в которой на протяжении первых веков н. э. грань между греками и римлянами все более стиралась. Поэтому раннехристианское бескомпромиссное осуждение официального Рима как воплощения мирового зла едва ли могло разделяться многими из горожан. Все они (пусть даже в известной степени и номинально) участвовали в городском самоуправлении и потому их общественная организация не могла восприниматься ими как нечто чуждое и враждебное, а традиции полисной морали (тем более при постоянной угрозе со стороны варварского окружения) поддерживали представление об общности интересов всех граждан. Естественно, это мало согласовывалось с раннехристианским пафосом нигилистического отношения ко всем формам проявления гражданской активности, а также с призывом игнорирования земных ценностей ради загробного блаженства. По орфико-дионисийским воззрениям, счастье на том свете вовсе не определялось страданиями и социальной ущербностью при жизни.
Относительная моноэтничность городского населения при генетической и культурно-религиозной преемственности поколений способствовала сохранению приверженности традиционным верованиям. Взгляды изменялись медленно, на протяжении столетий, и этот процесс едва ли четко осознавался самими херсонеситами. Ими воспринимались и переосмысливались новые, синкретические идеи, однако последние вовсе не противопоставлялись традиционным отеческим культам, а скорее, восполняли их. Христианские же представления, враждебные языческим обрядам, должны были быть глубоко антипатичны херсонеситам, жизнь которых органически связывалась с родной землей и местными традициями. Христианский космополитизм, вырабатывавшийся в полиэтнической среде обездоленных масс больших средиземноморских городов, едва ли был совместим с устойчиво сохранявшимся в Херсонесе полисным патриотизмом.
Как видим, в силу объективных обстоятельств в первые века н. э. христианство, о существовании которого, очевидно, уже знали на побережье Тавриды, не могло завладеть умами значительного числа херсонесских греков.
Вместе с тем нельзя исключить возможность появления в Херсонесе некоторого числа христиан уже во II—III вв. Может быть, первым христианином здесь действительно был сосланный сюда третий римский папа Климент. Не исключено, что биограф последнего, Ириней Лионский, имел в виду другой Херсонес — Фракийский, поскольку он упоминает о расположенных вблизи города мрамороломнях, многочисленных на берегу Пропонтиды — Мраморного моря, но отсутствующих в Крыму. Впрочем, писавший с чужих слов Ириней мог спутать добычу мрамора с разработками белого известняка, который шел на строительство Херсонеса, как и в наши дни Севастополя. Отметим также, что и сосланный в Херсонес другой римский папа — Мартин (середина VII в.) — в одном из писем упоминает о хранящихся в этом городе мощах Климента, перевезенных позднее, согласно летописи, в Киев князем Владимиром.
По свидетельству церковных источников («Откровение Иоанна», «Деяния апостолов», послания, особенно связываемые с личностью апостола Павла), сообщений античных авторов, прежде всего писем наместника Вифинии Плиния Младшего императору Траяну, уже к началу II в. христианство было достаточно) распространено в Малой Азии. Херсонеситы, поддерживающие тесные торговые связи с малоазийскими городами, не могли не знать о новом вероучении, воспринимавшемся образованными язычниками как «пагубное», «зловредное суеверие».
Вместе с тем материалы, которые свидетельствовали бы о постоянном или даже временном проживании сколько-нибудь значительного числа христиан в этом городе в первые века н. э., не известны. Единственная находка, которая с высокой степенью вероятности может быть связана с этим периодом, представляет собой изображение фантастического чудовища с зажатой в огромной зубастой пасти рыбой. В раннехристианской литературе известен образ гонителей новой веры в виде «зверя из бездны», «зверя страшного и ужасного», тогда как самих себя адепты новой веры символически изображали в виде рыбы. Такая образность рождается в обстановке гонений и преследований первых христиан, так что можно предполагать, что и статуэтка была изготовлена где-то во II—III вв. и в Херсонес попала с кем-то из ссыльных или беженцев. После легализации христианства Миланским эдиктом 313 г. нужда в искусстве подобного рода отпадает.
Вход в предполагаемую молельню первых херсонесских христиан (так называемый Подземный храм)
По мнению некоторых специалистов, с первыми веками н. э. каким-то образом связан располагавшийся на главной улице города пещерный храм-мавзолей, функционировавший как культовый объект, очевидно, с V в. и почитавшийся в средние века как место, связанное с деятельностью первых христиан в городе. Возможно, здесь, в переоборудованной под маленький храм уже не использовавшейся цистерне, собиралась для молитв и богослужений небольшая группа христиан, скрывавшихся от властей и языческого населения города. Не менее вероятно, что на этом месте (возможно, в самой цистерне) погиб кто-то из первых проповедников, в честь которого в IV или V в. и был сооружен культовый мемориал, дополненный позднее наземной часовней, от которой сохранилась только часть апсиды.
Сказанное, однако, не дает никаких оснований принимать на веру сообщения некоторых церковных историков, что прибывший в Херсонес в 94 г. римский епископ Климент нашел там более двух тысяч христиан, о которых, кстати, нет никаких упоминаний на протяжении двух последующих веков. Тем более легендарным следует признать и православное предание, что якобы первым христианином, попавшим в Херсонес, был апостол Андрей. В основе ее лежит сообщение жившего в начале III в. епископа портуенского Иполита будто бы «Андрей, после того как проповедовал скифам и фракийцам, претерпел крестную смерть в Патросе Ахейском». Постепенно среди христиан складывается представление, что после гибели Иисуса апостолы, как о том писал крупнейший раннехристианский мыслитель Ориген (200—258), «рассеявшись по вселенной», проповедовали каждый в отдельной стране: «Фома, как сохранилось у нас предание, получил в удел Парфию, Андрей — Скифию, Иоанну досталась Азия» (имеется в виду Малая Азия, точнее, ее западная часть, составлявшая римскую провинцию соответствующего названия) и т. д. На протяжении веков легенда обрастала подробностями, и когда в IX в. иерусалимский монах Епифаний обошел Причерноморье, записывая местные сказания о деятельности в этих краях «первозванного» апостола, то, по словам местных христиан, Андрей проповедовал в Иверии, Сванетии, Осетии и Абхазии, затем перенес свою деятельность в города Боспора, посетил Феодосию и, наконец, попал в «Херсонес, где и оставался долгое время». Столетия спустя древнерусские летописцы изобразят путешествие апостола и дальше на север — до Киева и Новгорода…
Как видим, в нашем распоряжении нет убедительных данных, свидетельствующих о заметном распространении христианства среди херсонеситов в первые три века новой эры. Социальное положение горожан и их мировоззрение явно препятствовали этому, а ссылка активных проповедников нового вероучения в Херсонес косвенно подтверждает мысль, что новая религия популярностью здесь не пользовалась. Можно признать наиболее убедительным предположение, что до начала IV в. христианами в городе были почти исключительно ссыльные или гонимые за веру, а также их потомки. В Херсонесе они не имели гражданских прав и, соответственно, занимали низшую ступень в общественной иерархии. Будучи угнетаемыми, снося упреки и насмешки из-за приверженности к чуждой основной массе херсонеситов вере, такие люди тем более утверждались в идеалах новой религии, проповедуя их среди таких же, как и они, обездоленных лиц, находившихся вне полисной общины.
По сохранившимся данным, первые массовые гонения на христиан в подвластных Риму причерноморских областях относятся к годам правления Коммода (181—193). Но эти акции были кратковременными и не имели существенных последствий. Более свирепые репрессии обрушились на христиан в провинциях Понт и Каппадокия при Максиме Фракийце (235—238). За ними последовали гонения времен правления Деция (249—251) и Валериана (253—258). Однако эти меры, при всей их жесткости, не достигали цели. И не только в силу приверженности христиан своему учению, поражавшей позднеантичных авторов, но и в связи с тем, что при калейдоскопической смене императоров и соответственно внутриполитического курса правительства, при все большей самостоятельности местных властей в каждой из провинций гонения носили спорадический характер: внезапно возникая, они вскоре стихали. Так, согласно второму антихристианскому эдикту Валериана от 258 г. клирики должны были подвергаться смертной казни, простые христиане — лишению прав и конфискации имущества, знатные женщины — ссылке, а дворцовые служители — низведению до статуса рабов. Но все же эти меры не получили широкого распространения, поскольку в том же году император попал в плен к персам, где и умер, а на протяжении последующих сорока лет, — при Галлиене (260—268), Аврелиане (270—275) и вплоть до последних лет правления Диоклетиана христиане пользовались спокойствием. Следовательно, нет оснований предполагать сколько-нибудь значительное, насильственное или добровольное, выселение в Херсонес христиан из внутренних областей империи.
Новые, тяжелые для христиан времена начинаются с 302 г., когда под влиянием своего сподвижника и полководца кесаря Галерия престарелый Диоклетиан насильственно принуждает всех своих подданных к участию в общегосударственном языческом культе, недопустимом с позиций христианского вероучения. В ответ на неповиновение император в 303—304 гг. последовательно издал четыре эдикта против христиан, — в которых предписывалось разрушать церкви и сжигать их священные книги, а самих адептов учения Иисуса под угрозой пыток и казней приводить к отправлению официальных обрядов. Особой строгостью исполнение этих мер отличалось в малоазийско-балканских областях. Там за их проведением следил сам император, находящийся в Никомедии, на берегу Мраморного моря (Пропонтиды). С этими событиями непосредственно связано предание о миссионерской деятельности христианских епископов в Херсонесе в первые годы IV в., изложенное в написанных (как показал исследовавший текст В.В. Латышев) в VII в. «Житиях св. епископов Херсонских».
Автор этого произведения, которым был, по всей видимости, один из епископов Херсона, собрал и переработал бытовавшие в то время легенды о первых проповедниках новой веры в его городе. Согласно этому тексту в последние годы правления Диоклетиана иерусалимский епископ Ерман для обращения жителей Тавриды в «истинную веру» послал туда Ефрема (к скифам) и Василия (в Херсонес). Горожане избили и изгнали миссионера, а после того, как Василий якобы приобщил к христианству «архонта» города (воскресив из мертвых его сына), убили его. Мученической смертью погибают вскоре и другие проповедники христианства в городе — Евгений, Алпидий и Агафодор, а посланный из Иерусалима на смену им проповедник не добрался до Таврии, скончавшись в пути.
Данную версию нельзя признать убедительной. Трудно себе представить, чтобы в условиях массовых гонений, не утихавших в восточных провинциях вплоть до 311—313 гг., священнослужители Палестины стали бы заботиться о «просвещении» жителей далекой Тавриды. В ту пору и сама иерусалимская церковь не имела еще никакого существенного значения и уж подавно не распространяла свое влияние на причерноморские области. Иерусалим, разрушенный в ходе Иудейской войны в сентябре 70 г. и повторно опустошенный в годы подавления восстания Бар-Кохбы (131—135), в III в. влачил существование второстепенного провинциального городка, а его христианская община и в IV в. была подвластна митрополиту Кесарии Палестинской, в свою очередь зависевшему от патриарха Антиохии. Только после легализации христианства и предпринятых матерью императора Константина Еленой в 325 г. разысканий в окрестностях города христианских реликвий, привлекших туда множество паломников, заметно возрастает престиж иерусалимской церкви. Она была признана «матерью всех церквей» и объявлена самостоятельной патриархией на третьем (Эфесском) вселенском соборе в 431 г.
Сказанное позволяет думать не только о крайней маловероятности присылки в начале IV в. миссионеров, из Иерусалима в Херсонес, но и дает основания предполагать, что сама легенда об этом могла зародиться не ранее второй половины V в., именно тогда ввиду возросшего авторитета иерусалимской церкви местное духовенство сочло бы престижным возводить свои истоки к проповедникам из города первых христиан.
Вместе с тем записанные спустя триста — четыреста лет после рассматриваемых событий легенды «Житий св. епископов Херсонских» могут содержать и отголоски реальных происшествий, прежде всего гибели первых проповедников христианства среди херсонеситов. Вполне правдоподобно, что в годы диоклетиановых гонений некоторые активные сторонники новой веры могли быть сосланы римскими властями в отдаленную Таврику или же, спасаясь от преследований, бежали туда сами. Естественно, что они попытались обратить в свою веру местных жителей. Однако эта попытка не удалась. Некоторые из проповедников могли погибнуть от рук язычников, возмущенных пренебрежением пришельцев к их отеческим святыням.
Однако в первые десятилетия IV в. во внутренней жизни Римской империи происходили решительные перемены, выразившиеся, в частности, и в принципиальном изменении правительственного курса по отношению к христианам. В 305 г. Диоклетиан в соответствии с данным им обещанием еще в начале его двадцатилетнего правления, отрекся от власти, разделив империю (официально сохранявшую единство) на несколько зон управления. Уже в следующем году Константин, провозглашенный солдатами императором Запада, будущий объединитель Римской державы, прекратил преследования христиан в подвластных ему провинциях. Правивший Востоком Галлерий незадолго до своей смерти издал 30 апреля 311 г. в Никомедии указ об официальном признании христиан религиозной общиной. Через год известный отрицательным отношением к христианству Максенций был разгромлен Константином под стенами Рима и утонул в Тибре при отступлении. В 313 г. разделившие власть в империи Константин на Западе (в Милане) и Лициний на Востоке (в Никомедии), по соглашению друг с другом издали эдикты о полной свободе совести и вероисповедания для своих подданных. Христиане отныне пользовались теми же правами, что и приверженцы других религий, они имели право открыто совершать свои культовые обряды, занимать любые гражданские и военные должности. Конфискованное в эпоху гонений имущество возвращалось церкви и частным лицам.
Победив своих противников, Константин и Лициний в течение десятилетия правили совместно. Однако в 324 г. между ними началась война, закончившаяся поражением Лициния. Он был сослан в Фессалоники, а затем убит. После этого до самой смерти в 337 г. Константин правил империей единолично, активно привлекая к участию в общественных делах своих сыновей. Не являясь христианином (согласно преданию, он крестился перед самой смертью), Константин был воспитан в почитании «Непобедимого Солнца», совмещавшего в себе черты Митры и Гелиоса. Статуям императора при его правлении по-прежнему воздавались божественные почести, а сам император в воздвигнутой им столице Константинополе (Новом Риме) был запечатлен в огромной статуе бога Солнца — Гелиоса. Наряду с христианскими храмами в городе были построены и языческие. Из них особенно выделялся храм Фортуны. А в окружении императора были как христиане, так и язычники. Его союз с христианской церковью носил прежде всего политический характер. Константин покровительствовал ей, понимая, что именно эта религиозная организация может оказать ему существенную поддержку в борьбе за власть, в деятельности, направленной на стабилизацию положения в расшатанном религиозными столкновениями и гражданскими войнами государстве.
Учитывая сказанное, нетрудно оценить и степень исторической достоверности содержащегося в «Житиях св. епископов херсонских» предания о времени и обстоятельствах крещения херсонеситов. Согласно этому источнику, Константин в ответ на просьбу преследуемых херсонесских христиан в 325 г. послал в город епископа Капитона в сопровождении 500 воинов с целью обращения его жителей в христианскую веру. Проповедник был встречен горожанами недоброжелательно, однако после совершения «чуда», смысл которого состоял в том, что он побывал в горящей печи и вышел оттуда невредимым, херсонесские язычники приняли его религию. Об этом было доложено участвовавшему в то время в работе Никейского собора (первого всеобщего съезда христианских епископов, проходившего под покровительством государственной власти) Константину.
Анализируя это предание, следует отметить, что посылка в 325 г. епископа в сопровождении столь значительного отряда с целью обращения в христианство жителей какого-либо города империи была попросту невозможной. Это противоречило самой сущности проводимой Константином (напомним, не являвшимся еще христианином) внутренней политики веротерпимости. Как писал в конце прошлого века церковный историк Л.П. Лебедев, указы Константина 20-х гг. IV в. «совершенно так же, как в Миланском эдикте… во всеобщее сведение объявляют, что каждый, кому нравится язычество, может свободно исповедовать его, и никто не должен посягать на религиозные права язычников». Тем более нерационально было бы восстанавливать против себя жителей пограничного Херсонеса столь грубым вмешательством в их внутреннюю жизнь в период постоянных войн с народами Северного Причерноморья.
Вместе с тем, учитывая сложившуюся в 20-х гг. IV в. в Причерноморье историческую ситуацию, можно допустить, что не все в рассматриваемом предании является вымышленным.
В 321 г. северопричерноморские варвары, именуемые римскими авторами обычно «готами», вновь нападают на империю и ведут с ней войну вплоть до 336 г., причем известно, что в 322 г. отряд херсонеситов принимал участие в борьбе с ними на Дунае. Параллельно военные действия разворачивались и в Крыму, так что присылка около 325 г. в Херсонес военного отряда представляется вполне вероятной. Можно предполагать также, что вместе с ним в город прибыл и священник Капитон, поскольку, во-первых, среди направленных в Тавриду солдат должны были быть и нуждавшиеся в «пастырском попечении» христиане, а во-вторых, и в самом Херсонесе, в ту пору, очевидно, уже сложилась небольшая христианская община, возглавить которую, вероятно, и призван был прибывший священнослужитель. Не исключено также, что императорские власти могли дать распоряжение командиру отряда Феоне оберегать Капитона и прочих христиан от местных язычников. Естественно, что, прибыв в город, священнослужитель должен был приступить к миссионерской деятельности.
Однако в качестве позднейших вымыслов (вполне естественных в эпоху средневековья) должны быть призваны сообщения о цели присылки военного отряда и о якобы состоявшемся массовом крещении херсонеситов. И то, и другое противоречит всему, что мы знаем об эпохе Константина. А второе, кроме того, не может быть увязано с тем, что археологически следы христианства в Херсонесе в IV в. практически неуловимы.
2. Политическая борьба в Восточно-Римской империи и христианизация херсонеситов
Утверждению христианства в таких отдаленных местах, как Херсонес, на протяжении всего IV в. и даже позднее препятствовали постоянные, приобретающие с этого времени религиозную окраску внутриполитические конфликты. Созыв Никейского собора в 325 г., на котором был официально провозглашен союз государства и церкви, в неменьшей степени был обусловлен расколом самих христиан на сторонников «афанасьевского» и «арианского» направлений. На соборе победили сторонники «афанасьевского» толка и во имя единства церкви император счел целесообразным подкрепить их приоритет административными санкциями. Однако через несколько лет между церковными иерархами и Константином происходит конфликт. После этого правитель склоняется на сторону более послушных арианских епископов. Возглавлявший православных Афанасий, он же глава александрийской церкви, был низложен и изгнан, а Арий призван в Константинополь, но в день своего прибытия внезапно заболел и скончался, что дало основания его сторонникам обвинять афанасьевцев в отравлении. Вскоре, 22 мая 337 г., умер и Константин, не успев созвать, как утверждали ариане, собор, где их символ веры должен был восторжествовать.
С этого времени при дворе начинается неутихавшая вплоть до самого конца IV в. борьба православной и арианской партий, обычно тесно переплетавшаяся с борьбой за власть между наследниками Константина. Один из его сыновей, Констанций, которому достался Восток, придерживался арианства, тогда как утвердившийся на Западе Констант поддерживал никейскую ортодоксию. В начале 350 г. последний был убит узурпатором Магнецием, в свою очередь погибшем через три года в борьбе с Констанцием, которому в конечном счете удалось объединить под своей властью всю империю. Его усилия были направлены на утверждение арианства. Он опирался на поддержку армии и чиновничества, однако оппозиционно настроенные к его режиму средние городские слои, все еще сохранявшие определенное влияние на политический курс правительства, ориентировались на епископов Никейского толка. Нароставшая конфронтация приводила к частым кровопролитным столкновениям в городах, в том числе и в самом Константинополе, а в Египте с середины 50-х гг. вызвала настоящую гражданскую войну.
Соборы, опровергавшие решения друг друга, низлагавшие и восстанавливающие на своих местах высших церковных иерархов, проходили один за другим. Антиохийский собор в 339 г. смещает православного Афанасия, но уже в следующем году на съезде епископов в Риме он вновь оправдан. Компромиссные решения Антиохийского собора 341—342 гг. не удовлетворили ни одну из сторон. В Сердике (современной Софии) в 343 г. произошел новый раскол, после которого восточные епископы в Антиохии вновь в 344 г. склоняются к никейскому символу веры. Однако созванные Констанцием соборы в Арле (353) и Милане (355) объявляют о торжестве арианства, против чего выступает римский папа Либерий, вскоре отправленный в ссылку, и приобретающий все большее влияние епископ анкирский Василий, прозванный впоследствии Великим. Для урегулирования дел в Сирмие под эгидой императора в 357 и 358 гг. проводятся совещания епископов, а в 359 г. созываются параллельно два собора: на Западе, в Римини, и на Востоке, в Селевкии. Оба они под давлением правительства принимают компромиссные решения, не удовлетворяющие ни одну из противоборствующих сторон.
По мере обострения раздоров среди христиан начала консолидироваться языческая оппозиция, социальный состав которой оказался чрезвычайно пестрым и противоречивым. Ее сторонниками были представители родовитой сенаторской и провинциальной знати, противившейся бюрократизации общественной жизни, а также многочисленная в крупных городах риторская и художественная интеллигенция, в руках которой все еще находилась система образования, многие офицеры и вербовавшиеся в отдаленных, еще почти не затронутых христианизацией сельских местностях солдаты. Приверженцами уходящего язычества были и утонченные философы-неоплатоники, сохранившие немалое влияние на образованную публику Александрии, Афин, Берита или Пергама, и неграмотные, поклонявшиеся деревенским идолам крестьяне Фракии, Иллирии или внутренних областей Анатолии. Всех их объединяла негативная платформа — реакция против уже начинавшего проявлять свою нетерпимость к инакомыслию христианству. Понятно, что активная роль в последней схватке язычества с утверждающейся церковностью принадлежала не бесправным земледельцам и пастухам, а тем из горожан, кто ценил античную образованность и муниципальные свободы.
Лидером языческой оппозиции стал Юлиан, двоюродный брат Констанция — единственный уцелевший из его родственников. В молодости он вел себя исключительно скромно, старался быть вдали от императорского двора. Серьезно интересуясь философией, Юлиан некоторое время обучался в Афинской академии, после чего в 355 г. был направлен в Галлию для организации отпора варварам. Ходили слухи, что тайно ненавидящий его Констанций послал совершенно неопытного в ратных делах Юлиана на Запад на верную гибель. Однако, к удивлению всех, он проявил себя разумным полководцем, смелым воином, справедливым командиром и снискал такое уважение среди легионеров, что те, будучи возмущенными мерами Констанция, принудили Юлиана принять императорское звание. Вскоре Констанций умер, и Юлиан без труда овладел Константинополем. «Казалось, сама Фортуна с рогом изобилия в руках, — писал его горячий сторонник Аммиан Марцеллин, — оказала всевозможное благоволение и сулила славу ему, спокойно властвовавшему над римским народом. Ему не пришлось бороться с внутренними врагами, и ни один варварский народ не вышел за пределы своей территории».
В области религиозной политики Юлиан «издал ясные и определенные указы, разрешавшие открыть храмы, приносить жертвы и восстановить культы богов. Чтобы придать большую силу своим распоряжениям, он созвал во дворец христианских епископов, пребывавших в раздоре друг с другом, и народ, раздираемый ересями, и в дружеском тоне стал уговаривать их предать забвению свои распри, чтобы каждый, не подвергаясь опасности, исповедовал ту религию, которая ему нравится. Он особенно настаивал на этом, рассчитывая, что свобода вероисповедания приведет к увеличению религиозных раздоров… Он знал по опыту, что дикие звери не проявляют такой ярости, какую проявляет большинство христиан в своих внутрирелигиозных разногласиях».
Однако все начинания Юлиана, прозванного христианами Отступником, умерли вместе с гибелью императора 26 июня 363 г. во время похода против персов. Сменивший его на престоле Иовиан, сторонник Никейского православия, отменил все распоряжения своего предшественника. Через год он скончался. Войска провозгласили императором Валентина — опытного полководца, христианина, но, по словам Аммиана Марцеллина, «проводившего во внутренней политике принципы веротерпимости». «Славу его правления составляет та сдержанность, с какой он относился к религиозным раздорам; никого он не задевал, не издавал повелений почитать то или другое и не заставлял своих подданных по строгому принуждению склоняться перед тем, во что верил сам». Он сделал своего младшего брата Валента соправителем и, вверив ему Восток, отбыл в Медиолан (современный Милан) для организации обороны империи от наседавших на ее западные области варваров.
Годы правления Валента (364—378) характеризуются возвращением двора к проводимой ранее Констанцием проарианской церковной политике. Это вызвало мощную православную оппозицию, возглавляемую каппадокийским епископатом, прежде всего Василием Великим, Григорием Богословом и Григорием Нисским. В обстановке начинавшегося конфликта внутри христианской партии легионы, добывшие власть Юлиану, 28 сентября 365 г. восстали и провозгласили императором его племянника Прокопия, ориентировавшегося на силы язычников. Но уже весной 366 г. он был побежден, схвачен и казнен константинопольским правительством.
Римская империя и народы Европы в IV—V вв.
Вслед за этим началась полоса террора. В августе 378 г. жаждавший военных лавров Валент выступил против восставших готов и, не дожидаясь подхода армии своего племянника Грациана (сменившего на Западе в 375 г. умершего Валентиниана), дал бой под Адрианополем. Римляне были разгромлены и рассеяны, а спасавшийся бегством император погиб. Через пять лет не стало и Грациана, после чего вся власть и на Западе, и на Востоке оказалась в руках Феодосия. На протяжении его шестнадцатилетнего правления ортодоксальное православно-католическое вероисповедание окончательно утвердилось в центральных провинциях империи. Будучи талантливым полководцем и рассудительным правителем, хотя и не отличавшимся ни широкой образованностью, ни уважением к чужим взглядам, Феодосий в 394 г. провозгласил христианство Никейского символа веры единственной религией Римской империи. Начиная с 380 г. в империи было издано несколько строгих распоряжений против языческого богослужения, имевших, впрочем, реальную силу лишь в крупных городах. Воинам-варварам разрешалось исповедание арианства.
Только учитывая внутреннее положение в Римской империи IV в., можем оценить уровень христианизации этого единственного в ту пору на северном побережье Черного моря позднеантичного центра.
Как повествуется в «Житиях святых епископов херсонских», вполне вероятно, что прибывший в город Капитон дожил там до глубокой старости, и после его смерти общину возглавил новый епископ. Возможно, Капитон построил упоминающуюся в данном источнике церковь Петра в восточной части города, недалеко от порта. Правда, до сих пор ни одного храма IV в. в городе не найдено, а древнейшая из раскопанных базилик (так называемая базилика Крузе) датируется второй половиной V в. Возможно, в последующую эпоху широкомасштабной реконструкции города (конец V — первая половина VI вв.), существовавший ранее небольшой храм мог быть полностью перестроен. Но даже допуская его функционирование в IV в., трудно представить, чтобы он мог быть рассчитан на сколько-нибудь значительное число прихожан. Само отсутствие находок фундаментов культовых сооружений в городе IV в. свидетельствует о малочисленности местной христианской общины в тот период.
При этом небезынтересно заметить, что упоминавшийся ранее Прокопий, возглавивший языческую оппозицию после смерти Юлиана, пытался укрыться в Херсонесе, где, очевидно, мог рассчитывать на поддержку языческого же населения, а также, вероятно, и на поддержку готских королей, в частности Атанариха — правителя вестготов, предпринимавшего в те годы активные меры против христиан. Факт ориентации Прокопия на Херсонес является еще одним косвенным подтверждением того, что христианство здесь в середине IV в. не занимало господствующего положения.
Гуннское вторжение и гибель поселений Северного Причерноморья в последней четверти IV в. оборвало развивавшиеся на протяжении многих столетий экономические связи Херсонеса, что способствовало его хозяйственному упадку. Набеги кочевников на прилегающие аграрные районы подрывали и его земледельческую базу. Гибли виноградники, закрывались винодельни, а рыбозасолочные цистерны на территории самого городища начали использоваться как мусорные ямы. Во многих из них так и остались центнеры нереализованной соленой рыбы, кости которой обнаружены при раскопках.
К этим тревожным годам относятся первые неоспоримые данные о наличии христианской общины в Херсонесе. Имя ее руководителя, епископа Эвферия, фигурирует в списке участников II вселенского собора, проходившего под эгидой Феодосия I в Константинополе (381). Обстановка военной напряженности, неуверенности в завтрашнем дне, постоянного страха перед возможностью гуннского погрома (об ужасах которого должны были рассказывать беженцы, скопившиеся в городе со всего Крыма) создавали благоприятную почву для распространения покаянных, эсхатологических настроений.
Безрадостное настоящее порождало упование на лучшее будущее, пусть даже загробное. К тому же Феодосий последовательно проводил политику повсеместного насаждения православного христианства. После объявленного 27 февраля 380 г. эдикта, по которому все подданные империи должны были исповедовать православную веру, в 392 г. был издан закон, согласно которому отправление языческих обрядов считалось оскорблением императорского величества.
В эти же годы резко усиливаются гонения на языческую интеллигенцию и сочувственно относившуюся к античным традициям аристократическую оппозицию. В городах с санкции местных властей предводительствуемые монахами толпы фанатиков разрушают последние языческие святилища, в частности огромный храм Сераписа в Александрии. Во время усиливающейся в связи с этими действиями напряженности в самом Риме узурпировавший власть на Западе сановник Евгений в 383 г. вынужден был пойти на серьезные уступки язычникам. Он вернул им конфискованное храмовое имущество и разрешил свободное богослужение, причем не только римским божествам, но и восточным, в частности Изиде и малоазийской Великой Матери Богов. Но Феодосий двинул войска в Италию и в 394 г. после победы под Аквилеей занял Рим. С. языческим ренессансом в «вечном городе» было покончено. И здесь христианство было введено в качестве обязательного вероисповедания.
Таким образом, с конца IV в. внутри- и внешнеполитические факторы способствовали началу внедрения христианской идеологии в сознание и быт херсонеситов. Формально его должны были признать все, однако, судя по археологическим данным, и в V в. православие основной массы горожан было в значительной мере номинальным. Об этом свидетельствует абсолютное преобладание языческих черт в погребальном обряде и почти полное отсутствие культовых сооружений. Вероятно, ядро христианской общины в городе (не считая, конечно, самих священнослужителей) состояло из присылавшихся сюда византийских чиновников, чье официальное положение предполагало православное вероисповедание.
Ориентировались на христианство, очевидно, и те из горожан, которые стремились заслужить доверие римско-византийской администрации. При этом, как и в отдаленных местах империи, представители местной знати могли еще достаточно долго придерживаться традиционного язычества. Здесь, как и в Риме, военные потрясения конца IV — начала V в. могли привести даже к некоторой активизации языческой партии, которая объясняла все бедствия, обрушившиеся в ту пору на империю, тем, что после принятия христианства боги перестали покровительствовать Риму. Именно против этих взглядов крупнейший христианский мыслитель начала V в. Августин направил свое главное произведение «О граде божьем».
Христианские памятники Херсонеса V в. как и IV, весьма немногочисленны. Представлены они главным образом скульптурными изображениями и некоторыми склепами, а также отдельными бытовыми предметами (например, глиняный кружок с изображением св. Фоки) и надгробиями в виде крестов, датируемыми в пределах V—VII вв.
Надгробие в виде крестов. Херсонес V—VII вв.
Найденные в Херсонесе христианские статуэтки тех веков примечательны тем, что запечатленные в них образы в большинстве случаев восходят к античным сюжетам, приобретающим новый аллегорический смысл. Наиболее характерны обнаруженные при раскопках городища фрагменты статуэток Орфея и Доброго пастыря. Орфей, мифический певец и проповедник религии Диониса, от имени которого и произошло название учения орфиков, в сознании ранних христиан ассоциировался с Иисусом; оба они проповедовали любовь и погибли насильственной смертью. Иисус-Орфей изображался, как правило, в виде вдохновенного певца, завораживающего своей игрой и голосом собравшихся вокруг него зверей и птиц — Паству.
Столь же Символична и фигура Доброго пастыря, держащего на плечах ягненка: пастырь аллегорически изображал Иисуса, приносящего к стаду — христианской общине — заблудшего ягненка.
Этим периодом датируются и некоторые склепы с характерной росписью в виде виноградной лозы и животных, имевших для христиан символическое значение.
Особое внимание привлекают монограммы Христа, соответствующие символическому изображению золота в эллинистическое время. Они сочетаются в двух склепах с греческими буквами «Α» и «ω», значение которых раскрывается известной фразой из Апокалипсиса, где говорится, что Бог есть альфа и омега — начало и конец всего сущего. Здесь сталкиваемся с воспринятыми и переосмысленными христианами античными символами — светильником, чашей с вином, венком, голубем и т. д. Около одного из склепов V в. был найден надгробный известняковый крест и обломок мраморной плиты с изображением хождения святого Фоки по водам. При этом христианская символика нередко сочетается с явно языческой традицией класть вместе с умершим посуду с ритуальной пищей, другие бытовые вещи. Во многих склепах, однако, при обилии сопроводительного погребального инвентаря никаких христианских атрибутов не обнаруживается. Нет их, как правило, и в обычных, высеченных в скальном грунте могилах, принадлежавших менее обеспеченным гражданам. Последние в большинстве своем в V в. едва ли сознательно занимали антихристианскую позицию и исповедовали религию античного времени. Очевидно, они уже признали православие, но их мировоззрение еще мало от того изменилось. Христианизация в значительной мере была внешней, формальной, свидетельствовавшей со времен Феодосия I скорее о политической лояльности по отношению к империи, чем о личных убеждениях человека.
Фрагмент росписи потолка одного из херсонесских склепов ранневизантийского периода
Напомним, что и в V в. язычество все еще занимало прочные позиции в культурной жизни образованных слоев империи, в обрядово-бытовой практике сельских жителей. В крупных городах сохраняются риторские школы, культивировавшие позднеантичные традиции. В Александрии до начала V в., а в Афинах — на протяжении всего этого столетия активно развивается нехристианская неоплатоническая философия. В исторических и литературных произведениях того времени, не принадлежащих перу церковных деятелей, христианские идеи едва заметны. Не смотря на многочисленные правительственные указы, не только в отдаленных сельских местностях, но и возле больших городов все еще справлялись языческие обряды. Даже в Риме в конце V в. на склоне Палатинского холма справляли Луперкалии — старинные празднества в честь бога Пана. Поэтому не удивительно, что в Херсонесе даже в V в. по языческому обряду еще, хотя и в единичных случаях, совершались археологически засвидетельствованные трупосожжения. Язычество и христианство здесь долго соседствовали друг с другом, взаимодействуя и взаимопроникая. Победа христианства во многом сводилась к его адаптации применительно к быту и мировоззрению основной массы населения империи. Это, естественно, приводило к коренной трансформации христианского вероучения, вполне определившейся при переходе от поздней античности к раннему средневековью.
Став государственной религией позднеримской империи, христианство из вероучения отверженных превращается в нормативный общественный культ, постепенно приспосабливающийся к мировоззренческим стереотипам основных общественных групп. На смену осуждения социальных порядков приходит их освящение авторитетом церкви, тесное сотрудничество духовенства и государственной администрации при главенствующей роли последней, тогда как исповедание православного христианства становится в Византии показателем политической благонадежности. Вместе с тем церковная идеология, истоки которой были связаны с воззрениями и надеждами обездоленных слоев Римской империи, была достаточно гибкой, чтобы сохранять видимость заботы духовенства о благе народных масс. В немалой степени этому способствовала и оппозиционность православных епископов по отношению к опиравшимся на военно-бюрократический аппарат императорам-арианам в IV в.
Распространению христианства благоприятствовало и устоявшееся в сознании жителей империи уже в эпоху поздней античности представление о боге-вседержителе, его сыне-посланнике — боге-спасителе и богородице — богине-матери. К V в. эти синкретические фигуры окончательно приобретают христианский облик Бога-Отца, Бога-сына и девы Марии. При этом лишенное свойственного ему на первых порах пафоса отрицания ценностей обыденной жизни и системы официального общества христианство впитывает и перерабатывает многие языческие представления и ритуалы. Сам Иисус, человеческие черты которого все более блекнут, начинает представляться в виде высшей надмировой силы, от воли которой зависит участь каждого при жизни и после смерти. Наряду с ним люди поклоняются богоматери и многочисленным святым, замещающим по своим функциям древних богов — покровителей отдельных местностей, профессий и занятий. Человек связывает свою жизнь с тем или иным святым-покровителем, выполняющим роль «демона» древних греков и «гения» римлян.
В течение IV—VI вв. старые языческие обряды и представления во многом продолжают существовать, наполняясь новым, христианским содержанием. Церковь боролась лишь с теми из них, которые заведомо не могли быть согласованы с ее учением. Таких же было не так уж много — ведь официальное византийское православие создавалось в ходе переработки раннехристианской доктрины по мере ее приспособления к представлениям как основной массы населения, так и к идеологическим задачам правительства империи. Естественно, что в такой модифицированной форме христианство гораздо легче и безболезненнее воспринималось жителями отдаленных аграрных областей, в том числе и греками юго-западного Крыма.
Светильник с христианской символикой. Херсонес. V в.
На протяжении всего V в. внутриполитическое положение в Византии постепенно стабилизируется. Однако борьба с гуннами и готами все еще не позволяла приступить к последовательной христианизации отдаленных владений империи. К середине V в. константинопольскому православному патриарху при поддержке римского папы удалось добиться победы над представленным главным образом сирийскими церквями несторианством и отстаиваемым египетским клиром монофизитством. Если император Феодосий II «Малый» (408—450) на протяжении своего длительного правления временами еще колебался между Никейской ортодоксией и противостоящими ей толкованиями, то уже Лев I (457—474) был впервые в византийской истории коронован константинопольским патриархом. Этим подчеркивалось укрепление союза православной церкви и императорской власти.
Сменивший Льва I на престоле Зинон (474—491) также ориентировался на союз с православием и стремился к расширению византийского влияния на периферии. Главные его усилия были направлены на Италию, которая к этому времени оказывается в руках варваров. Однако и в юго-западном Крыму усиление византийской власти становится хорошо заметным к концу V в., о чем свидетельствует укрепление стен Херсонеса, законченное в 488 г.
Внимание константинопольского двора к Херсонесу было, очевидно, связано с вторжением в Крым гуннских орд, вынужденных отступить из Центральной Европы. Установив господство в степной части полуострова, кочевники совершают опустошительные набеги на предгорные и прибрежные районы Крыма, что не могло не встревожить правительство Византии. Кроме того, перед лицом общей опасности в те годы, по всей видимости, намечается сплочение херсонеситов и негреческого населения городищ, располагавшихся неподалеку от Херсонеса.
Базилика VI в. Херсонес, современное состояние
Укрепление византийской власти в Херсонесе и распространение ее влияния на близлежащие области юго-западного Крыма определяло не только работы по восстановлению башен и стен города, но и начало монументального храмового строительства. Именно к концу V в. относится сооружение древнейшей из известных в настоящее время херсонской церкви — базилики Крузе, а также нескольких крестообразных храмов-мавзолеев. Начало такого строительства свидетельствует как об определенном экономическом подъеме города на заре средневековья, так и об усилении внимания византийской администрации к духовной жизни горожан, а затем и сельского населения прилегающих районов. По всей видимости, именно Херсонес — Херсон, как его начинают называть с того времени, рассматривался правителями империи в качестве оплота византийской власти в Северном Причерноморье.
Особое внимание к военно-политическому и религиозному положению в Крыму проявляло правительство Юстиниана I (527—565), стремившегося восстановить «империю ромеев» в ее прежних границах. В Крыму разворачивается большое фортификационное строительство. В первую очередь были усилены укрепления Херсона и включенного в состав империи Боспора, а также возведены крепости в районах современных Алушты и Гурзуфа. Строительство укреплений охватило и весь примыкавший к Херсону юго-западный Крым, прочно вошедший в пределы империи.
В эпоху правления Юстиниана I религиозная нетерпимость, вылившаяся в массовые преследования язычников, представителей разнообразных еретических течений и приверженцев иудаизма, возводится в ранг государственной доктрины и санкционируется рядом правительственных постановлений 527—528 гг. Вводится практика насильственного крещения по православному обряду сторонников неортодоксальных толков христианства, смертной казни за принадлежность к манихейству, законодательное запрещение всех форм отправления языческого культа при лишении язычников права занимать какие-либо государственные посты. Эти мероприятия сопровождались церковным и монастырским строительством не только в столице, но и в местах, где позиции православной церкви к тому времени были еще недостаточно прочны. Одним из таких районов был и юго-западный Крым.
На основании археологических раскопок можно наглядно представить себе усилия византийского правительства по утверждению христианства в Херсоне и его округе в середине VI в. Каждый городской квартал получает свою церковь-базилику. Большие, пышно отделанные проконесским мрамором, мозаиками и фресками храмы возносятся над рядами жилых домов и становятся главенствующими в городском ансамбле. Руководство и финансирование такого мероприятия должно было осуществляться из центра.
рядом Внешний вид типичной херсонесской базилики VI в. Реконструкция Е.А. Куркиной
Византийская организация строительства храмов проявилась в массовых поставках мраморных декоративных элементов из Пропонтиды. Все эти чрезвычайно дорогостоящие и обременительные для херсонеситов мероприятия прямо диктовались официальной политикой Юстиниана I. С этим же курсом было связано, очевидно, и основание загородного монастыря Богородицы Влахернской, ставшего впоследствии известным как усыпальница сосланного уже в VII в. в Херсон папы римского Мартина. Строились базилики (по существу — идентичные херсонским) и в других наиболее крупных поселениях юго-западного Крыма, находящихся под контролем Византии: на Мангупе, на Эски-Кермене, в Фуллах, а также в Партенитах, где был создан и монастырь.
Энергичные мероприятия византийского правительства в эпоху правления Юстиниана I не могли не дать своих плодов. В условиях преследований всех инакомыслящих монументальное культовое строительство в Таврике не могло означать ничего другого, кроме насильственного насаждения православного христианства в Херсоне и прилегающих к нему районах. Прекращается публичное отправление языческих обрядов, в частности погребальных трупосожжений. На строительные детали, использующиеся при сооружении базилик, разбираются еще сохранившиеся к тому времени здания языческих храмов.
Появление многочисленных вместительных церквей предполагало обязательное присутствие массы горожан при совершении богослужения. Сказанное, конечно, не означает полной христианизации той части населения Крыма, которая оказалась под юрисдикцией византийской военной администрации. Однако можно предположить, что христианское вероисповедание православного толка к середине VI в. должно было быть принято массой населения Херсона и (хотя бы — формально) ближайших к нему районов. Даже крымским готам, исповедовавшим христианство в арианской форме, в 548 г. был прислан из Византии православный священник.
3. Византия и раннесредневековый Херсон
Юстинианова империя начала рассыпаться уже в последние годы жизни ее создателя. Несмотря на еще недавние грандиозные победы над вандалами, остготами и персами, Византия оказалась беспомощной перед славянскими вторжениями из-за Дуная на Балканы. Экономика империи была истощена беспрерывными, проводившимися на протяжении нескольких десятилетий войнами, а армия, по свидетельству Юстина II (565—578), была «до такой степени расстроена, что государство было предоставлено беспрерывным нашествиям и набегам варваров». Положение еще более обострилось, когда в 567 г. воинственные кочевники-авары, разгромив союзных Византии гепидов, утвердились на Среднем Дунае, а годом позже лангобарды заняли едва лишь присоединенную к империи Северную и частично Среднюю Италию. Вся вторая половина VI в. была заполнена ожесточенной борьбой Византии с аварами и славянами, постепенно заселявшими Балканский полуостров. При этом положение в значительной степени осложнялось тяжелыми войнами с Персией, восстаниями в Египте, наступлением вестготов в Испании и постоянными набегами мавританско-ливийских племен на византийские владения в Африке.
Юстин II и сменивший его на престоле Тиверий Константин (578—582) пытаются примирить православных и монофизитов. Зять и наследник последнего — Маврикий (582—602) должен был пойти на существенные уступки в налоговой политике, стремясь при этом заручиться поддержкой высшей знати и интеллигенции. Но все это не предотвратило надвигавшегося кризиса: в 602 г. восставшие легионы, боровшиеся на Дунае с аварами и славянами, двинулись на Константинополь и при поддержке городских низов, страдавших от нехватки хлеба, провозгласили императором центуриона Фоку (602—610). Последний распорядился казнить Маврикия, умертвив сперва на глазах свергнутого императора его сыновей. В империи начались годы террора.
Однако в западных областях, где режим Фоки не располагал сколько-нибудь значительными силами, правитель Северной Африки в 608 г. открыто выступил против диктатора. Его активно поддержало население Египта. В октябре 610 г. большой флот Ираклия — сына африканского экзарха — подошел к Константинополю и при поддержке части городского населения смог войти в гавань Золотой Рог. Фока был казнен и патриарх Сергий провозгласил полководца императором.
Все годы правления Ираклия (610—641) отмечены энергичными усилиями по борьбе с внешними врагами и восстановлению нормальной жизни в стране. Несмотря на то что авары и персы неоднократно подступали к Константинополю, а в 619 г. в руках Хосрова II оказались Сирия, Килликия и Египет, к 628 г. императору удалось полностью разгромить и персов, и авар.
Однако в 30-е годы он столкнулся с не менее страшной угрозой — объединенными и обращенными в ислам арабскими племенами, начавшими одновременное наступление на Персию и Византию. В год смерти императора в руках арабов уже находились Месопотамия, Сирия и Палестина, и они успешно приступили к завоеванию Египта. Однако преемникам Ираклия — Константу II (641—668) и Константину IV (668—685) удалось остановить продвижение мусульман и возобновить власть Византии в некоторых, уже заселенных славянами областях Балканского полуострова.
В условиях напряженной борьбы с восточными противниками и Ираклий, и Констант II стремились к преодолению религиозной вражды между православием и монофизитством, распространенном в Египте, Армении и на Ближнем Востоке. Опираясь на поддержку императора и высшего духовенства, константинопольский патриарх Сергий предложил компромиссный вариант — монофелитство, вызвавшее протесты как наиболее ярых ортодоксов во главе с римским папой, так и враждебных Византии монофизитов. Разгневанный противодействием своему плану религиозного примирения, проведав о сепаратистских устремлениях римского владыки, Констант арестовывает, судит и ссылает папу Мартина в Херсон. Тот вскоре умирает, успев, однако, отправить друзьям два письма с описанием своего бедственного положения. Они-то и служат главными, хотя и бесспорно тенденциозными документами, на основании которых мы можем представить положение Херсона в середине VII в.
В мае 655 г., едва прибыв в Крым, Мартин пишет своему другу: «…в этих краях голод и нужда такие, что хлеб здесь известен разве по названию, а его и видом не видать». И далее, жалуясь, что «в этой стране нельзя располагать даже продуктами, удовлетворяющими самым умеренным потребностям», просит прислать ему «хлеб, вино, оливковое масло и другие продукты». В другом письме сосланный папа сообщает, что хлеб и другие продукты ему удается купить по весьма высокой цене лишь «с судов, изредка заходящих сюда с тем, чтобы уходить с грузом соли». Что же касается верований обитателей этих мест, то, по словам римского первосвященника, они «все язычники, и языческие нравы приобрели те, которые известны как жители здешнего (города)». Как видим, Мартин, констатируя убогое состояние жителей Херсонеса, их нищету и язычество, подчеркивает, что «языческие нравы» горожане приобрели от населения близлежащих заселенных варварами районов. Не является ли это намеком на частичную «реставрацию» языческих представлений в эпоху ослабления зависимости от Византии и общего социально-экономического упадка города?
Рассмотрим возможность такого развития в контексте истории юго-западного Крыма за столетие, отделяющее время ссылки папы Мартина от возведения в Херсоне великолепных базилик юстиниановой эпохи.
На протяжении первой половины и середины VI в. экономическое положение Херсона было достаточно стабильным, чему в немалой степени способствовало укрепление военно-политических позиций Византии в Северном Причерноморье. Являясь центром обширного земледельческого района юго-западного Крыма, Херсон развивается как торговый, ремесленный и промысловый центр, поддерживающий интенсивные связи с малоазийскими городами и с кочевым населением степной Таврики. Торговое развитие стимулировало денежное обращение, о чем свидетельствует чеканка собственной херсонесской монеты, продолжавшаяся вплоть до конца VI в. С начала VII в. выпуск собственной монеты в городе прекращается. Вновь он возобновился лишь в середине IX в.
Со второй половины VI в. внешнеполитическое и экономическое положение Херсона явно начинает осложняться. Движение авар через причерноморские степи в 60-е годы не затронуло юго-западный Крым. Однако шедшие по их стопам полчища восточных тюрков — хазар — в союзе с остатками гуннов-утургуров в 576 г. осадили и взяли Боспор. В 581 г., как сообщал император Тиберий II аварским послам, тюрки стали лагерем около Херсона, но взять его не смогли.
Следующим ударом по положению города должен был быть фактический развал империи во время восьмилетней диктатуры Фоки, приведшей к гражданской войне и длительной персидской оккупации многих византийских провинций, в том числе и ряда областей Малой Азии, с городами которой Херсонес-Херсон всегда поддерживал наиболее тесные связи. При этом не исключено, что, как и некоторые другие отдаленные владения империи, Херсон не признал режим Фоки и фактически отложился от империи. Все это означало резкое сокращение, если не фактическую ликвидацию, процветавшей ранее торговой жизни города, а при условии разорения кочевниками его сельскохозяйственной округи означало и затяжной продовольственный кризис. Не могло улучшиться положение Херсона и в эпоху правления Ираклия или Константа II, направлявших все свои усилия на борьбу с аварами и славянами на западе, персами, а затем арабами — на востоке. Херсон по-прежнему считался владением некогда могущественной Византии, но фактически оказался предоставленным самому себе.
Все эти обстоятельства не могли не привести к упадку города, сокращению численности его населения и натурализации экономики. По мере возрастания опасности со стороны кочевников земледельческое население близлежащих районов должно было искать убежища за городскими стенами как самого Херсона, так и превращенных в неприступные крепости Мангупа, Эски-Кермена и других поселений. Это, в свою очередь, было связано с активным смешением херсонеситов и варварского по своему происхождению, но уже давно подчиненного Византии населения юго-западного Крыма. Даже допуская его формальную христианизацию во времена Юстиниана I, трудно усомниться в том, что в своей массе сельские жители все еще придерживались языческих представлений и традиций. Ослабление же связей с Византией должно было привести к упадку политики внедрения церковной идеологии в сознание широких масс. Оторванное от империи население юго-западного Крыма формально, должно быть, признавало христианство, но фактически на уровне обыденных представлений и повседневного поведения придерживалось языческих традиций. Это и бросилось в глаза папе Мартину, непосредственно столкнувшемуся с херсонеситами и жителями городской округи.
Во второй половине VII в. положение Херсона еще более осложнилось. В Византии тогда повсеместно наблюдалось затухание товарного производства и сокращение торговых связей при общей натурализации хозяйственной жизни. С этим были связаны децентрализация государственного аппарата и замена наемной армии местным ополчением. Постепенно внедряется фемная система управления, при которой правители отдельных, ранее всего — наиболее отдаленных областей-фем — объединяют в своих руках военную и гражданскую власть, превращаясь в полунезависимых наместников. Осложняется и положение в самой столице: в 663 г. Констант II покинул Константинополь и перенес свою резиденцию в Италию. Но там через пять лет он погиб в результате дворцового заговора. Тогда же вновь усилился натиск арабов на Малую Азию, население которой, не надеясь на помощь регулярных войск, создало крепкую военную организацию самообороны, опиравшуюся на общинное крестьянство. Не сумев подчинить Малую Азию, арабский халиф Моавия создал могущественный флот, который, захватив ряд городов на Эгейском и Мраморном морях, в 674 г. появился под стенами Константинополя. Четыре года мусульмане угрожали столице, но все же им пришлось отступить. Немалую роль в этой победе византийцев сыграло изобретение Каллиником самовозгорающейся смеси — знаменитого «греческого огня» — способной поджигать вражеские суда на большом расстоянии.
Борьба с арабами не позволила Константину IV противостоять продвижению болгар хана Аспаруха, теснимых с востока хазарами. Только в 680 г. император смог послать на Дунай большую экспедицию, потерпевшую, впрочем, полный провал. Победа Аспаруха позволила кочевникам укрепиться на правом, заселенном главным образом славянами, берегу Дуная и создать Болгарское государство, официально признанное Византией уже в 681 г.
Все эти события имели самое прямое отношение к Херсону. Находившаяся в 70-е годы VII в. на грани гибели Византия, конечно же, не могла обеспечить безопасность своих отдаленных владений в Крыму. Зато разгромившие приазовских булгар хазары стремились к утверждению своей власти во всем Северном Причерноморье. Занимая Приазовские и Прикаспийские степи, наместники кагана тудуны к концу VII в. уже сидели в Фанагории и на Боспоре. Их власть распространилась даже на расположенный в 20 километрах от Херсона Дорос. Не позднее середины VIII в. хазарский правитель, хотя и с христианским именем Юрий (как о том сообщает славянская редакция жития Стефана Сурожского), появляется в Сугдее, нынешнем Судаке. А относительно Херсонеса мы располагаем надежными сведениями: около 710 г. в городе присутствовал хазарский представитель. Все это позволяет заключить, что к началу VIII в. хазарское влияние в Таврике становится преобладающим. Византийская власть в Херсоне и его ближайших окрестностях сохраняется чисто номинально, а в некоторые годы и ликвидируется вовсе.
Начало VIII в. было связано с новым этапом тяжелой борьбы Византии с угрожавшей и Хазарии арабской экспансией. В 717 г. арабская армия под командованием Масламы обложила Константинополь. Византийцам удалось добиться морской победы и при помощи зашедших в тыл противнику болгарских отрядов разгромить мусульман к 15 августа 718 г., но арабы вскоре разбили союзников империи — хазар. Блестящая победа Льва III (717—741) в 740 г. над мусульманами при Акроине спасла кагана от подчинения халифу. С этого времени наступает коренной перелом в византийско-мусульманской борьбе: империя переходит в контрнаступление и постепенно отвоевывает некоторые из утраченных ею ранее территорий в Армении, Малой Азии и Сирии. Хазары оставались естественными союзниками Византии в борьбе с арабами.
Внешнеполитические успехи позволили Льву III приступить к решительным внутриполитическим и церковным мероприятиям. Нуждаясь в средствах и опираясь на провинциальную военную знать малоазийских фем, враждебно настроенную к столичной аристократии и склонной к монофизитско-монофелитскому истолкованию христианского вероучения, император поддержал епископов восточных областей, выступивших против иконопочитания. Это знаменовало начало длительной социально-религиозной борьбы. Против почитания икон, связанного с ортодоксально-православным исповеданием, выступили негреческие по происхождению представители военных кругов малоазийских фем, добившиеся победы над константинопольскою знатью. На их стороне были и широкие слои населения восточных провинций, связанные с еретическими течениями предшествующих веков и воспринимавшие православие в неразрывной связи с гнетом столичной аристократии. Возглавившие движение императоры-исавры, чуждые традициям греческого православия, стремились не только окончательно подчинить церковь своему влиянию, но и присвоить накопленные храмами и монастырями сокровища, потребность в которых все более возрастала в ходе затяжной борьбы с Халифатом.
Но у православного иконопочитания нашлись и сильные сторонники. Кроме духовенства и многочисленного монашества, среди них были представители греческой по происхождению городской и в первую очередь утратившей свое былое могущество константинопольской знати, неразрывно связанной с административными кругами. На стороне иконопочитания выступили также широкие круги населения Эллады и островов Эгейского моря. В Италии иконоборческая политика стала предлогом для восстания: византийские войска были либо разбиты, либо перешли на сторону папы, а многие города, в том числе и Венеция, полностью стали независимыми.
Иконоборческую политику Льва III последовательно продолжал его сын Константин V (741—775). Сторонники иконопочитания при поддержке константинопольского населения выступили против нового императора. Однако после 16-месячной гражданской войны Константину V, опиравшемуся на фемные войска, удалось вновь утвердиться в столице. Добившись затем ряда серьезных успехов в борьбе с арабами и болгарами, Константин закрепил победу иконоборчества решением вселенского собора, состоявшегося в 754 г. в одном из предместий Константинополя. На нем было объявлено, что иконопочитание возникло вследствие козней сатаны, а писать иконы Христа, богоматери и святых — это значит оскорблять их «презренным эллинским искусством». Римский папа и возглавляемые им западные церкви не приняли этих постановлений. Выступила против них и знать столицы, других греческих городов.
Наибольшее сопротивление решениям собора оказало монашество. Император ответил на сопротивление террором: начали закрывать монастыри и конфисковывать их имущество, а монахов и монахинь под угрозой ослепления и изгнания принуждали к немедленному вступлению в брак и возвращению к мирской жизни. Сторонники иконопочитания, прежде всего подвергавшиеся гонениям монахи, вынуждены были массами эмигрировать в те области империи и ее ближайшей периферии, где власть Византии была сравнительно слабой, а местное население не поддерживало иконоборческой политики двора: на Сицилию, в Южную Италию и Крым.
Неизвестный нам по имени херсонесский епископ в 754 г. подписывает постановления «иконоборческого» собора. Однако, как сообщает житие оказавшегося в Таврии и умершего в 764 г. одного из видных «иконопочитателей» Стефана Нового, местное население не хотело участвовать «в новшестве беззаконного собора». Это свидетельствует не только о слабости центральной византийской власти в Херсоне, но и об оппозиции горожан политике императоров-исавров, правивших под лозунгами иконоборчества.
Оппозиционность херсонцев по отношению к империи обусловливалась не только церковной политикой императоров. Недовольство усиливалось в связи с ростом налоговых поборов, причем сам Херсон в ту эпоху ничего не выигрывал от пребывания в составе империи. Отношения с Хазарией были в целом достаточно мирными, так что внешняя опасность городу не угрожала, а торговля с крупными городами Византии в условиях прогрессирующей натурализации экономики империи была фактически сведена на нет. При таком положении религиозные мероприятия императоров-исавров могли лишь усиливать недовольство греческого в основе своей населения Херсона. А это в специфической идейно-политической ситуации, сложившейся в VIII в. в Византии, должно было способствовать популярности православия.
Росту православного влияния с середины VIII в. способствовала в Крыму и уже упоминавшаяся массовая эмиграция монахов, а также тот факт, что Херсон оставался местом ссылки опальных вельмож, в большинстве приверженных православному вероисповеданию. К этому времени относится возникновение ряда пещерных монастырей в юго-западном и южном Крыму, в том числе и в непосредственной близости от Херсона (в Инкермане, Чилтере, Шулдане). Примечательно, что по форме они весьма близки монастырям Южной Италии того времени. Это объясняется, очевидно, не только сходными природными условиями — наличием удобных для вырубки скал, но и общественным положением, мировоззрением бежавших от преследований монахов, оказывавшихся в чужих местах без средств и поддержки. Епифаний, писатель-монах конца VIII — начала IX в., отмечал: «Херсаки же — народ коварный и до нынешнего дня туги на веру». С точки зрения церковного автора, обработавшего сказания о хождении апостола Андрея по северным странам, религиозность жителей города находится в далеко не удовлетворительном состоянии. Однако в отличие от писавшего ста пятидесятью годами ранее папы Мартина Епифаний не упрекает их в язычестве. Херсонеситы же, безусловно, христиане и сами себя считают таковыми, но их понимание вероучения не может удовлетворить образованного монаха. Несколькими десятилетиями позднее языческие обряды в Фуллах, селении неподалеку от Херсона, наблюдал христианский миссионер Константин (Кирилл) Философ, однако о язычестве среди самих жителей города он не сообщает. Поэтому на основании письменных источников, несмотря на всю их скудость, мы можем заключить, что процесс христианизации херсонцев не только формально, как то было в конце правления Юстиниана I, но и по существу завершился к началу IX в. Немалую роль в этом сыграла иконоборческая политика императоров-исавров, способствовавшая росту популярности православия в Крыму.
При всех своих временных успехах иконоборчество так и не смогло окончательно восторжествовать. В конце VIII — начале IX в. власть оказалась в руках ставленников столичной аристократии. Вскоре фемной военной знати, успевшей превратиться в слой крупных землевладельцев Малой Азии, вновь удалось возвести на престол своего кандидата — Льва V Армянина (813—820), при котором начинается новый этап иконоборчества. Однако сменившему его в результате дворцового переворота Михаилу II (820—829) перед лицом развернувшегося в 20-х годах народного восстания под руководством Фомы Славянина пришлось заботиться о сплочении сил господствующего класса, включавшего как иконоборческую военно-землевладельческую знать малоазийских фем, так и иконопочитателей греческих городов, в первую очередь аристократию и чиновничество Константинополя. Споры об иконах были запрещены и каждому было разрешено относиться к ним по своему усмотрению.
Сын Михаила Феофил (829—842) возобновил политику иконоборчества и выселения монахов из центральных областей империи на далекие окраины, что объективно способствовало росту влияния монахов в провинциях, в том числе и в Крыму. Правление Феофила было ознаменовано и активными военно-политическими действиями. В борьбе с арабами ему сперва сопутствовали успехи. Византийцам даже удалось завладеть крупным сирийским городом Самосатой. Однако неожиданно для императора халиф Мутасим предпринял решительное контрнаступление и, разбив противника под Дазимоном 22 июля 837 г., подступил к Аморию — местопребыванию основных сил анатолийской иконоборческой знати. Взятие города 12 августа 838 г., сопровождавшееся избиением и порабощением его жителей, означало, кроме всего прочего, и ликвидацию главных сил, на которые Феофил мог опираться в иконоборческой политике.
Параллельно с усилением арабской опасности обстановка осложнялась и в Северном Причерноморье. Империя по-прежнему ориентировалась на союз с Хазарией. Ослабленная длительными религиозными войнами, она оказалась неподготовленной к борьбе с усиливавшимися на ее границах соседями — двигавшимися с востока венграми и печенегами, а затем и Русью.
Усиление Руси угрожало не только Хазарии, но и Византии. По сведениям из жития Стефана Сурожской, в первые десятилетия IX в. русский князь Бравлин совершил поход в Крым и «плени от Корсуня до Корча», т. е. от Херсона до Керчи, «с многою силою прииде к Сурожу» (Судаку) и взял город. В те же годы, как свидетельствует житие Георгия Амастридского: «Было нашествие варваров, Руси… Они… начав разорение от Пропонтиды и посетив прочее побережье, достигли, наконец, и отечества святого» — Амастриды на малоазийском побережье Черного моря. Город был взят и разграблен. О том, что известному походу Руси 860 г. на Константинополь предшествовали набеги на византийские провинции Причерноморья, писал Скилица: «Все лежащее на берегах Эвксина и его побережье разорял и опустошал в набегах флот россов… И вот самую столицу он подверг ужасной опасности». Очевидно, походы руссов, известные нам по двум житиям, были явлением достаточно частым в первой половине IX в. Хазария уже не могла воспрепятствовать свободному выходу Руси в Причерноморье. Поэтому одной из первостепенных задач Византии было укрепление своих позиций в Крыму, и прежде всего в ее главном опорном пункте на этой территории — Херсоне.
Немалую роль в этом сыграл Петрона, брат жены императора, Феодоры, руководивший отправлявшейся по просьбе кагана из Херсона экспедицией в Хазарию для постройки Саркела, крепости на Дону (834 г.).
По возвращении в Константинополь, как век спустя об этом писал император Константин Багрянородный, Петрона сказал Феофилу: «Если ты хочешь подлинно владеть городом Херсоном и его областью и не выпускать их из-под своей руки, то назначь туда собственного стратига и не доверяй их первенствующим и начальникам». Прислушавшись к совету шурина, император, «обсудив, послать ли стратигом то или другое лицо, наконец решил послать вышеназванного спафарокандидата Петрону как хорошо ознакомившегося с краем и искусного в делах. Почтив его чином протоспафария, он назначил его стратигом и отправил в Херсон, повелев тогдашнему первенствующему и всем прочим подчиняться ему». Благодаря усилиям Петроны в Крыму и была организована херсонская фема — военно-административный округ, призванный противостоять угрозе со стороны Руси.
Деятельность Петроны в Херсоне начинается где-то с конца 30-х годов и мы не знаем, как долго он распоряжался судьбами византийских владений в Крыму. По крайней мере в 856 г. он уже стратиг Фракийской фемы. Однако, судя по развернувшимся в столице событиям, его положение должно было быть достаточно прочным и после кончины Феофила, наступившей 20 января 842 г. Императором был провозглашен племянник Петроны — малолетний сын покойного правителя Михаил III (842—867), а вся власть оказалась в руках столичной знати во главе с Феодорой и вельможей Феоктистом. Приход к власти константинопольской аристократии ознаменовал окончательную победу иконопочитателей, торжественно провозглашенную 11 марта 843 г. на церковном соборе. Изображения Христа вновь появляются на монетах и печатях. Правление Феодоры и Феоктиста продолжалось до 856 г., когда фактическим правителем страны стал кесарь Варда, брат Петроны и дядя шестнадцатилетнего в ту пору императора. Стремясь опереться на преданных ему полководцев, Варда, должно быть, переводит брата из Херсона в гораздо более важную во внутриполитических отношениях фему, охватывавшую запад Малой Азии.
С деятельностью Петроны в Крыму начинается новый этап истории Херсона. Город лишается сохранявшегося здесь на протяжении длительного времени самоуправления и подчиняется обычной для Византии VIII—IX вв. фемной организации власти. Это, в свою очередь, влечет за собой гораздо более интенсивные связи с центральными областями империи — не только военно-политического, но и экономического и культурно-религиозного характера. Как и повсеместно в Византии того времени, в Херсоне второй половины IX в. наблюдается оживление торгово-ремесленной деятельности. Он вновь становится крупным экономически развитым центром — посредником в торговых и дипломатических отношениях империи и народов Восточной Европы, в первую очередь восточных славян, переживавших в ту эпоху бурный процесс становления классовых отношений и раннефеодальной государственности. Естественно, что все эти перемены в Херсоне, происходившие на фоне начавшегося укрепления империи и в результате его, не могли не сказаться на духовной жизни города.
Население Херсона к середине IX в. уже в полной мере было христианским. Представители других народов, селившиеся в городе, также постепенно принимали православие. Однако разноэтническое население, заселявшее прилегавшие к городу районы, во многом еще держалось языческих представлений.
О язычниках в окрестностях Херсона сообщает и житие Константина Философа — Кирилла, которому в Херсоне удалось освоить хазарский, еврейский и русский языки. Последний он изучал следующим образом: «Обрете же ту евангелие и псалтырь руськыми письмены писано и человека обрет глаголюща того беседою». Из этого следует, что в Херсонесе середины IX в. не только проживали выходцы из Руси, но даже имелись церковные книги на славянском языке.
Одной из первостепенных задач византийской власти в Крыму было дальнейшее распространение православного христианства, чему благоприятствовало и появление в этом крае многих монастырей. Победа иконопочитателей способствовала росту их богатства и влияния. Монастыри постепенно превращавшиеся в крупных землевладельцев и верных проводников политики императоров в Крыму, становились оплотом византийского влияния и идеологического подчинения местного населения. Военная администрация всемерно содействовала их укреплению и обогащению. С середины IX в. в Крыму, равно как и во всех остальных областях Византии, окончательно восстанавливается союз императорской власти и православной церкви.
Взятый фемной властью курс на христианизацию прибрежного Крыма требовал и церковного строительства, разворачивавшегося в Херсоне и других населенных пунктах в IX—X вв. В первую очередь восстанавливались и ремонтировались базиликальные храмы юстиниановской эпохи. Причем работы велись за счет городских ресурсов, которых, естественно, было явно недостаточно для того, чтобы придать храмам прежний облик. В некоторых случаях на месте старых, разрушившихся к тому времени, возводились новые, имевшие уже гораздо меньшие размеры. Строились и новые храмы — уже не базиликальной, как ранее, а крестовокупольной конструкции, наиболее характерной для византийской культовой архитектуры IX—X вв. Постепенно усилиями византийской администрации, херсонского епископата и окрестных монастырей к христианству приобщалось и полуязыческое еще в середине IX в. население прилегающих к городу районов. Здесь также осуществлялось церковное строительство.
О том, что христианская религия в полной мере определяла мировоззрение херсонеситов второй половины IX—X вв., красноречиво свидетельствуют многочисленные находки вещей, связанных с культовой сферой, прежде всего крестиков. Интересны находки матриц для отливки крестов и других предметов с христианской символикой. Языческие черты в погребальном обряде к этому времени уже изжиты. Ко времени начала широких и многосторонних контактов херсонеситов с Киевской Русью их город в полной мере был в Северном Причерноморье форпостом не только византийской власти и влияния, но и православной церкви.
Боги древних славян
1. Функции мифологических персонажей
Проблемы мировоззрения ранних славян изучаются уже около ста пятидесяти лет, но многие важнейшие вопросы все еще остаются неясными. В современной советской литературе можно выделить два основных подхода к рассмотрению древнеславянской мифологии. Одни исследователи, и прежде всего Б.А. Рыбаков, перу которого принадлежит монография «Язычество древних славян», во многом развивая взгляды крупнейшего дореволюционного специалиста по этой теме Е.В. Аничкова, подходят к реконструкции древнеславянских воззрений, отталкиваясь преимущественно от этнографических данных. Они используют скупые сведения средневековых письменных источников и привлекают некоторые археологические факты, интерпретирующие в соответствии с общей концепцией.
Подход к вопросам изучения мифологии и мировоззрения ранних славян другой группы исследователей, среди которых прежде всего следует назвать В.В. Иванова и В.Н. Топорова, отличается ориентацией на достижения сравнительной индоевропейской филологии. При этом исследователи стремятся к выделению основных образно-понятийных Структур, определяющих общие черты мировоззрения древних индоевропейских народов. В этом контексте вырисовывается своеобразие духовной культуры архаической балто-славянской культурно-языковой общности и соответственно специфика мировоззрения раннеславянских и раннебалтийских племен.
Для понимания эволюции мифологических воззрений индоевропейских народов важнейшую роль играют концепции двух выдающихся французских исследователей нашего века — К. Леви-Строса и Ж. Демюзиля. Работы первого показали, что мышление первобытного человека представляло собою не поток ассоциаций, сплетавшихся в причудливые образы мифологических персонажей, а строго подчинялось так называемому закону «бинарных оппозиций». Его сущность заключается в выделении противоположных начал объективной реальности (свет — тьма, день — ночь, правое — левое, мужское — женское, верх — низ и т. д.), причем между самими этими парами понятий-образов устанавливалась строгая взаимозависимость. Открытие этого закона позволило уяснить внутреннюю структуру и логику мифологического мировоззрения в целом, дало ключ к пониманию специфической картины мира каждого первобытного народа.
Однако данная концепция, предлагающая общую теорию структуры архаического мышления, сама по себе еще не объясняет особенностей религиозно-мифологических систем отдельных этнокультурных (этноязыковых) общностей древности. К ним относятся индоевропейская, семитская, финноугорская и др., на базе которых складывались мифологии отдельных народов древности (например, индоарийских, иранских, кельтских, славянских, балтских и пр., относящихся к индоевропейской общности).
Общую структуру религиозно-мифологической картины мира древнейших индоевропейцев реконструировал Ж. Демюзиль. Он обнаружил, что в основе мировоззрения древнейших индоевропейских народов лежала модель трехчленного деления общества, параллельная трехчленной классификации богов. Иными словами, каждый из трех членов системы может быть охарактеризован как наделенный и социальными, и космическими функциями. В целом это соответствовало делению общества на три социальные группы — жрецов, воинов и трудовую часть населения, а космоса на три сферы — верхнюю, среднюю (между «небом» и «землей») и нижнюю. Однако внутри этого тройного деления прослеживалось и дуальное членение на каждом уровне. Так, первый, высший, уровень, связанный с идеей верховной власти, выступает в двух аспектах: юридическом и магическом, которым у индоариев соответствовали Митра (отдаленный прообраз того Митры, чей культ распространился в Римской империи) и Варуна.
Правда, нельзя забывать, что само понятие «индоевропейцы», даже применительно к древнейшей эпохе, является не более чем своего рода идеальной научной конструкцией. Безусловно, такого народа с единым хозяйственным укладом, общей социальной структурой, языком и пантеоном никогда в реальности не существовало. На основании общих черт в языках и мифах ряда этнических общностей следует полагать, что в эпоху каменного века на обширных пространствах западной части степей умеренного пояса Евразии, от Северного Причерноморья и Предкавказья до южных отрогов Урала (а возможно, и восточнее), главным образом по долинам рек, расселялись группы родственных общин. Они постепенно переходили от охоты, рыболовства и собирательства к скотоводству и примитивному мотыжному земледелию. Эти общины имели некоторые общие черты в языке и представлениях о мире.
По мере увеличения численности населения, развития транспортных средств (лодка, затем бычья упряжка и, наконец, конь), расширения торгового обмена к началу бронзового века в степной и отчасти лесостепной полосе Причерноморья, Приазовья, Подонья, Поволжья, Северного Кавказа и Южного Урала складываются группы постоянно контактирующих друг с другом племен. В основе их хозяйственной деятельности лежало пастушество при известной роли земледелия, а также рыболовства и охоты. Производство металлических изделий (оружия, украшений, а позднее и некоторых видов орудий труда) предполагало наличие торговых контактов с центрами металлургии, прежде всего Северо-Кавказского, а также Балкано-Карпатского и Уральского. Потребность в организации торговых связей усиливала роль племенной верхушки, концентрирующей в своих руках продукты общественного труда, а учащение военных столкновений в эпоху появления бронзового оружия и боевых колесниц требовало и выделения специального общественного слоя профессиональных воинов. При этом протоиндоевропейские племена на западе Евразийских степей и прилегающих районах лесостепной зоны (в том числе и по левому берегу Днепра) оказались в сфере сильного воздействия общества Северного Кавказа, выходящего фактически уже в эпоху существования там Майкопской культуры (середина III тыс. до н. э.) на предклассовый уровень развития. Северокавказское общество, являвшееся основным поставщиком меди и бронзы, оказалось, вместе с тем, и проводником влияния культуры переднеазиатских цивилизаций, стимулируя социально-экономическое и культурное развитие населения юга Восточной Европы.
Современные археологи — специалисты по «курганным» культурам степной зоны, полагают, что ямная культурно-историческая общность, охватывавшая языковых предков индоевропейских народов, состояла из ряда отдельных племенных групп, потомки которых имели различные исторические судьбы. Расселяясь в разных направлениях, скотоводы-индоевропейцы проникли в Центральную Европу и на Балканы, а оттуда — в Малую Азию. На востоке они продвинулись в Среднюю Азию, откуда одна их часть в середине II тыс. до н. э. вторглась в Северную Индию, а другая к началу I тыс. до н. э. уже господствовала на большей части Ирана. Все эти предположения носят пока еще остродискуссионный характер. Однако в данном случае нам важно подчеркнуть, что, признавая близость диалектов, общие черты структуры мифологического мировоззрения, нет основания полагать, будто все племена древнейших носителей языков индоевропейской группы поклонялись одним и тем же богам и одинаково представляли себе их образы и функции. Расселяясь среди других племен и смешиваясь с ними, «индоевропейцы» (если не ассимилировались аборигенами) образовывали новые культурно-языковые общности, где, соответственно, складывались и специфические религиозно-мифологические учения, выделявшие важнейшими тех или иных богов. Среди последних часть могла прямо восходить к образам индоевропейских племен эпохи их максимального единства. Другие, принимая новые названия, в основе своей являлись божествами доиндоевропейского населения данных территорий. Наконец, третьи, обычно в виде демонов и злых духов, могли прямо переходить из мифов чужих племен.
Данный процесс можно было бы ярко продемонстрировать на примере развития религии древней Индии — от ведической системы, через брахманизм завоевателей-ариев к индуизму, синтезировавшему верования пришельцев и аборигенов на новой основе, в условиях раннеклассового общества. Причем в этой новой религии древнейшая индоевропейская трехчленная структура уже не играла существенной роли. В зависимости от конкретно-исторических условий сам процесс эволюции и трансформации религиозно-мифологической концепции языковых потомков древнейших индоевропейцев протекал по-разному.
На основании гипотетически реконструированной Б.А. Рыбаковым предыстории приднепровских славян раннего средневековья постараемся теперь представить и логику развития их религиозно-мифологической системы в соответствии с выделенными основными фазами социально-экономического и политического развития.
Обосновавшиеся на территории Правобережной Лесостепной Украины носители индоевропейских диалектов активно смешивались с многочисленным позднетрипольским населением, имевшим восходившие к малоазийско-балканскому неолиту тысячелетние традиции древнеземледельческой энеолитической культуры. В основе их религиозно-мифологической картины мира лежала идея взаимодействия плодоносящей Матери-Земли и оплодотворяющего бога Неба, от брака которых рождается олицетворяющая молодую растительность девушка (аналог эгейской Коры-Персефоны). Такая мифологема предполагает и «похитителя» — Змия, образ которого столь характерен для древней мифологии и фольклора Эгеиды (Тифон), Балкан, Подунавья, Карпат и Украины — именно тех территорий, которые некогда входили в зону распространения древнеземледельческих культур эпохи энеолита.
Ассимилируя посттрипольское население и, соответственно, впитывая определенные элементы его мировоззрения, индоевропейские племена вырабатывали и свою специфическую культуру. Одной из важнейших компонентов ее была своеобразная религиозно-мифологическая картина мира. Структурную основу ее, надо полагать, составляла классическая индоевропейская трехчленная модель космоса и общественной структуры. Однако говорить о четком выделении трех социальных групп не приходится. До появления железных орудий труда уровень развития производительных сил на данной территории мог обеспечить лишь выделение отдельных племенных вождей, опирающихся на общинно-родовых старейшин и глав родов. Эта прослойка и выполняла высшие политические и религиозно-магические функции по управлению общественной жизнедеятельностью, соотнося себя в социальном мире с верховными божествами космической сферы, воплощающими магические и юридические стороны вселенского правопорядка. В древней индоарийской мифологии последним соответствовали Варуна и Митра, а у ираноариев, скорее всего, близкий к Варуне прототип зороастрийского Ахура-Мазды и тот же Митра. Это важно подчеркнуть, поскольку, как можно считать доказанным, в рамках древнейшей индоевропейской общности балто-славянские и индо-иранские племена были ближайшими соседями. Так же вплоть до первых веков нашей эры в постоянном взаимодействии друг с другом находились восточнославянские группы и ираноязычное скифо-сарматское население степей Северного Причерноморья.
Применительно к эпохе бронзового века еще нет оснований говорить о выделении у отдаленных предков славян в качестве особой социально-экономической прослойки профессиональных воинов — военной аристократии предклассовых и раннеклассовых обществ, которая в это время уже была у архейских греков, хеттов и индо-иранцев. Однако следует допустить, что у праславян II тыс. до н. э., известных нам (как полагает Б.А. Рыбаков и многие другие ученые) по материалам тшинецко-комаровской археологической культуры, распространенной на территории Правобережной Лесостепной Украины и Восточной Польши в соответствии с традиционным для первобытности половозрастным разделением труда, уже существовали своего рода «отряды» юношей, которые в случае военной опасности составляли боевой авангард племени. Они и их предводители являлись прототипом будущих военных вождей-князей с постоянными профессиональными дружинами. Однако в рассматриваемый период они составляли лишь определенный половозрастной класс. Естественно, что у них должен был быть свой сакральный покровитель — буйный, неистовый, воинственный бог-победитель, подобный убивающему дракона Индре индоариев и его иранскому аналогу — Вартрагне.
Основная масса праславян состояла из организованных по родовому принципу общинников, занимавшихся в условиях оседлого образа жизни скотоводством и земледелием при вспомогательной роли охоты и рыболовства. Поэтому основное внимание в повседневной культовой практике они должны были уделять именно тем божествам, от которых зависел урожай, приплод скота и общее благосостояние семьи и рода. Среди них неизбежно должны были фигурировать боги природных стихий (солнца, огня, ветра, вод, в меньшей степени — месяца, звезд и т. д.), выполнявших и функции покровителей определенных хозяйственных занятий (земледелия, скотоводства), различных домашних женских занятий — (прядения, ткачества), появляющейся металлургии. Также должны были быть и специальные покровители семейно-родовой сферы, возможно, мифические прародители, основоположники родов. Среди них у всех индоевропейских народов фигурировали не только мужские, но и женские персонажи. Причем последние в большинстве были по происхождению не индоевропейскими, а представляли собой образы, заимствованные у древнеземледельческих народов.
Кого же относили праславяне к главным богам «занебесного мира», отвечавшим за магический и юридический аспекты космического устройства? Наиболее вероятно, что ими должны были быть Стрибог и Сварог. В древнерусское время они уже не фигурируют в качестве главных персонажей славянского пантеона. Однако, как уже давно заметили исследователи, для мифологий индоевропейских народов вообще характерна концепция смены поколений богов — объектов главного культа. Так, у индоариев Индра постепенно начинал заслонять Варуну и Митру. В рамках реформированной древнеиранской религии — зороастризма, Митра, оказавшийся в эпоху Ахеменидов в роли воителя Ахура-Мазды, в период эллинизма и Римской империи также выдвигается на первый план. Особенно ярко идея смены поколений богов выразилась в древнегреческой мифологии, где (как полагают, не без влияния хеттской, в свою очередь связанной с хурритскими мифами, религиозной концепцией) отдаленная эпоха Урана сменяется веком господства бога Кроноса. Его, в свою очередь, у кормила власти сменяет Зевс, почитание которого уже в эпоху классической античности начинает блекнуть на фоне ярко расцветших культов его сыновей-антиподов — Аполлона и Диониса. Поэтому логично предположить (как и делают многие исследователи), что и у праславян во главе пантеона должны были стоять божества, чей культ в эпоху раннего средневековья уже отступал на второй план.
Гипотеза о связи Сварога с первым из трех уровней бытия по концепции Демюзиля была высказана Р. Якобсоном и поддержана М.В. Поповичем. По их мнению, восточнославянского Сварога, почитавшегося в западнославянском мире под именами Тварог и Рарог, а также имевшего многочисленные эпитеты (Святовит, Яровит, Руевит, Поровит и др.) можно сопоставить с Варуной (и, соответственно, древнеиранским аналогом последнего — прототипом зороастрийского Ахура-Мазды). Сыном его, согласно Ипатьевской летописи, являлся бог солнца: «Солнце же царь, сын Сварога, он де Дажьбог». С другой стороны, в текстах неоднократно фигурирует Огонь-Сварожич — также сын Сварога. А через Дажьбога Сварог прямо может рассматриваться в качестве мифического первопредка, поскольку в «Слове о полку Игореве» русины прямо названы «Дажьбожьими внуками», т. е. «правнуками» Сварога.
Поскольку «сын», как отмечает М.В. Попович, в архаическом мировоззрении понимался как «реализация», «воплощение» своего «отца», можно полагать, что Солнце-Дажьбог (а равно, на наш взгляд, и Огонь-Сварожич) как чувственно данная реальность Небесного Огня (света как такового) воспринимался древними славянами воплощением некоего огненного принципа, силы-сущности Сварога. Он связывался с колдовской магической деятельностью, сопричастной в первобытном сознании и военным функциям. Ведь от умения выполнять обряды и приносить жертвы, через которые просьбы людей доходят до богов, непосредственно зависел успех во всех сферах, в том числе и удача в бою.
Менее ясен характер Стрибога, образу которого исследователи обычно уделяют немного внимания. Большинство из них разделяет точку зрения Л. Нидерле, полагавшего, что поскольку в «Слове о полку Игореве» ветры названы «Стрибожьими внуками», то и сам он является ни чем иным, как персонификацией сильного дующего ветра. Неясна и этимология его имени: Р. Якобсон связывает его с древнеславянским «стерти» — распространять, Я.Е. Боровский выводит его имя из древнего корня «стрити» — уничтожать, Б.А. Рыбаков предложил считать его эпитетом главного небесного божества, означающим просто «старый бог». В целом, на наш взгляд, эти толкования только дополняют друг друга. Будучи связанным с грозной, неконтролируемой, способной на любые неожиданности небесной стихией, Стрибог в равной степени может приносить людям как добро, так и зло, действуя через свои бесчисленные реализации (ветры-внуки). С одной стороны, он может приносить необходимый посевам теплый весенний дождь, но с другой — выступает и губительной силой. Автор «Слова» пишет: «Вот ветры, Стрибожьи внуки, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы».
В итоге приходим к выводу, что у праславян, как и у современных им и даже в древнейшие времена соседних с ними индоиранцев, существовали два небесных божества. Они представляют как бы два атмосферных состояния и соответственно связывались более с юридическим или магическим аспектами верховной власти жреца-вождя. Первым из них является грозный, переменчивый, буйный Стрибог, действующий как на благо, так и во вред людям, а потому более чуждый им, чем второй — спокойный, мирный, доброжелательный Сварог — бог светозарного ясного неба, отец Солнца-Дажьбога и Огня-Сварожича.
Определив в общих чертах функции и позиции этой пары верховных богов праславянского мира, мы должны признать, что с древнейшим индоарийским Варуной скорее соотносится Стрибог. Сварог же функционально соответствует Митре древнеиндийского пантеона. Как показал Демюзиль, у индоариев Митра выступал в качестве верховного бога в его разумном, ясном, умеренном и упорядоченном, спокойном, доброжелательном, жреческом аспекте. Варуна же — верховный бог в своем нападающем, темном, таинственном, неистовом, ужасном, воинственном облике. Уточняя затем эти характеристики, французский исследователь стал определять первого как доброжелательного верховного бога-законника, заботящегося о людях, доступного им и воспринимающего их, а потому более близкого им. Второго он характеризовал как ужасного верховного бога-мага, более отстраненного от человеческих нужд и забот. Образы их как божеств небесной сферы близки по сути. Однако в тенденции их различает общая направленность ее реализации.
Теперь остается «заполнить» второй уровень бытия, охватывающий пространства между «небом» и «землей». Основная пара богов в данном случае достаточно очевидна: Дажьбог-Солнце и Перун-Гроза, соответствующие индоарийскому солнечному Сурье и гроз^рму, воинственному Индре. Оба бога — персонификации атмосферных сил, от которых непосредственно зависит хозяйственная деятельность и вообще жизнь на земле. Вместе с тем и тот, и другой воспринимаются в аспекте воителей, побеждающих своих врагов стрелами-лучами или копьями-молниями.
Но если Дажьбог представляется более спокойным, дающим людям тепло и урожай (что, как отмечал еще Л. Нидерле, заключено в самой этимологии его имени), то Перун — неистов и буйствен, персонифицирует стихийные силы, мужество и победоносность. Он, как и его индоарийский аналог Индра, сокрушает дракона и вдохновляет на бой и победу племенное ополчение, в первую очередь военного вождя и его отряд юношей. Но он может и отвернуться, даровав победу врагам. Поэтому Перуна надо ублажать жертвами, в том числе, учитывая его любовь к войне, и кровавыми, даже человеческими. Аналогичным образом двойственна и его космическая роль как бога грозы. Он дает благодатный дождь, который, вместе с тем, может градом и бурей погубить посевы. В целом же славяно-балтский Перун-Перкунас аналогичен не только Индре, но и, возможно, в большей степени, древнегерманскому Тору, побеждающему в бою великанов и дающему плодородие через грозу.
Зная характер Дажьбога и Перуна, нетрудно установить и их «родственные связи» с высшим миром. О первом мы достоверно знаем, что он — сын Сварога, его, так сказать, зримая реализация в поднебесном мире. Это полностью подтверждается соответствием функций каждого из них относительно космического и, надо полагать, социального порядка. Можно предполагать, что Дажьбог уже в древнейшие времена отождествлялся со светской властью в рамках племен, тогда как Сварог олицетворял сакральную власть «царя»-жреца. Об «отце» Перуна мы ничего определенного не знаем, однако нетрудно предположить, что скорее всего им должен быть Стрибог. Ведь его характер на небе вполне соответствовал буйному нраву воителя-громовержца. В соответствии с принципами мифологической логики, гроза как раз и являлась конкретной реализацией небесного неистовства, могущего обернуться как на благо, так и во зло.
Следует полагать, что кроме Дажьбога и Перуна, на среднем уровне мироздания должны были действовать и другие божества, одного из которых мы уже упоминали. Это Огонь-Сварожич — ближайший аналог индоарийского Агни, имя которого означало «огонь». Праславянский бог огня мог также именоваться просто Огнем, а в ритуальных текстах, где важно было подчеркнуть его сакральную роль, торжественно именовался Сварожичем. Кроме него, важную роль должен был играть Месяц, которого Я.Е. Боровский гипотетически сближает с Хорсом. На этом уровне мироздания существовали, очевидно, и другие божества, однако сказать что-либо о них затруднительно.
Обратимся теперь к нижнему миру, противостоящему своей земноводной сущностью небесному и поднебесному (атмосферному) планам космоса. В более развитых социальных структурах индоиранской ветви индоевропейцев с богами этого уровня соотносилась вся масса рядовых общинников, из среды которых уже выделилось жречество и военная знать как отдельные сословия — варны брахманов и кшатриев. Однако применительно к праславянскому обществу кануна железного века мы можем говорить об обособлении вождей-жрецов и (но только в рамках системы половозрастного разделения труда) военизированных отрядов юношей. Поэтому в целом боги третьего уровня должны были быть почитаемы практически всеми членами общества.
Представляя себе в общих чертах скотоводческо-земледельческий уклад праславянских племен II — начала I тыс. до н. э., правомерно предположить, что парой богов третьего уровня бытия — хтоническими, подземными, или, по крайней мере, «низинными» богами, — должны были быть те, которые обеспечивали плодовитость скота и урожайность земли. В современной науке общепризнано, что у древнейших славян скотоводство было связано с культом Велеса («скотьего бога»), а земледелие — с почитанием Рода. Этимологию имени последнего Б.А. Рыбаков раскрывает через ряд однокоренных слов: род — народ — родня — родичи — родина — родить — природа — урожай. Пара Род — Велес представляется соотносимой с оппозициями Дажьбог — Перун и Сварог — Стрибог. Первый член каждого из этих трех противопоставлений соответствует благожелательным к человеку аспектам космоса, тогда как второй определяет двойственное по отношению к людям действие природных стихий.
В реконструируемом В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым древнейшем балто-славянском мифе о противоборстве Перуна-Перкунаса и Велеса-Велса последний (побеждаемый) представлен как бы в негативном облике Змия — владыки нижнего мира. Однако он (именно за счет того, что является хозяином земных и водных глубин) обеспечивает произрастание трав, от которых зависит скотоводство. В степной и лесостепной зоне наилучшими пастбищами являются низины — заливные луга. Поэтому, очевидно, и почитание Велеса было связано с пойменными местами. Но «змеиная» сущность Велеса проявлялась в опасностях, которые несли с собой реки для обосновывавшихся в их долинах скотоводческо-земледельческих общин. Обильные весенние разливы могли губить людей и скот. Максимум разгула речной стихии приходился на конец апреля — начало мая, когда все с нетерпением ждали, чтобы воды скорее схлынули. Как раз в это время, в мае, и громыхали первые весенние грозы: Перун боролся с Велесом, преследовал его, гнал — и реки вновь входили в свои берега, напоив влагой пойменные долины: пастбища и возделываемые участки.
При таком подходе к мифу о противостоянии Перуна — Велеса, в равной степени необходимых для ведения скотоводческо-земледельческого хозяйства степной и примыкающей к ней лесостепной полосы Восточной Европы эпохи энеолита — ранней бронзы, мы весьма гипотетически можем связать его зарождение с коневодческой культурой Среднего Стога. Она генетически предшествовала в поймах Днепра, Северного Донца и отчасти Дона памятникам позднеямной культурно-исторической общности. Велес выступает богом заливных лугов и покровителем скота. Но он может быть и его похитителем — и тогда с ним сражается громовержец-Перун, чей культ связан с дубовыми деревьями на возвышенностях, не затопляемых в весенние паводки. Но при сосредоточенном в поймах мотыжном земледелии, игравшем второстепенную роль в хозяйственной жизни носителей среднестоговской и ямной культур, Велес оказывался связанным и с кругом аграрных занятий, сохраняя в некоторой степени эти функции вплоть до эпохи раннего средневековья.
По мере ассимиляции позднетрипольских групп племенами — носителями индоевропейских диалектов на территории Правобережной Украины, имеющей полуторатысячелетнюю традицию энеолитической культуры пашенного земледелия балкано-малоазийского облика, заметно должны были выдвигаться и собственно аграрные божества. В энеолитическом Восточном Средиземноморье и Балкано-Дунайском регионе они имели облик Отца-Неба, Матери-Земли и их дочери (сына), воплощавших силы пробуждающейся природы. Им должен был противостоять похититель дочери, виновный в угасании природы осенью, но по какой-то причине (победы над ним отца или возлюбленного «Коры» или договора с похитителем?) возвращающий ее весной на землю. Как отмечалось, в той или иной степени сходным с этим был миф о борьбе Перуна и Велеса. По всей видимости, он был связан с мотивом похищения женщин не в меньшей степени, чем с сюжетом о краже скота. Синтез этих двух близких мифов в период становления праславянской общности на территории (II тыс. до н. э.), занятой некогда трипольскими племенами, вероятно, определил новое понимание божественных сил нижнего мира.
Главной парой мужских богов этого уровня оказываются преимущественно скотоводческий Велес и Род, последний, возможно, имел индоевропейского балто-славянского прототипа, но в собственно земледельческой ипостаси выделился у праславян лесостепи, уже обособившихся от прабалтов. В основе своей он, как кажется, является низвергнутым с высот небесным Богом-отцом трипольских земледельцев, обеспечивающим совместно со своей супругой Матерью-Землей урожай. По мере возрастания роли земледелия в жизни древнеславянского общества почитание этой пары усиливалось. При этом их масштаб выводил из традиционного равновесия всю трехуровневую исходную индоевропейскую структуру мифологически, представляемого бытия. Род и Мать-Земля, ставшая, очевидно, славянской Мокошью, персонифицировали мужской и женский аспекты плодородия и продолжения рода. В качестве их дочерей могли выступать часто упоминающиеся в древнерусских текстах «рожаницы». Однако главное место в религиозно-мифологическом круге должна была занимать похищаемая на зиму «Кора», чьи изящные статуэтки столь характерны для позднетрипольской пластики.
В контексте индоевропейского праславянского мышления место ее похитителя должен был занять именно Велес, змий вод, тающих весною снегов. В таком случае на роль «освободителя» (и брачного партнера) могли претендовать и Перун (в согласии с традиционной канвой мифа), и Дажьбог. Возможно, они действовали совместно, что соответствовало бы условиям поздней весны, когда солнечные дни чередуются с теплыми грозовыми ливнями. Кто-то из них был главным персонажем, а второй — помощником. В эпоху славяно-балтского единства основную роль, бесспорно, играл Перун-Перкунас. Но по мере того как в жизни праславян при переходе к раннежелезному веку все большую роль начинало играть земледелие, вполне возможно, что на первый план стал выдвигаться солнечный Дажьбог.
2. Структура праславянского пантеона
С начала I тыс. до н. э. праславянское общество на территории лесостепной Правобережной Украины вступает в полосу интенсивного развития, связанную с освоением производства железных орудий а потому и увеличением производительности земледельческого труда. В руках племенной знати оказываются значительные излишки пищевых продуктов, за счет которых можно было содержать постоянные боевые дружины, ремесленников, прислугу, в том числе и рабов. Это же обеспечивало расширение торговли как со степным миром, где в то время происходил переход к кочевничеству, так и с появляющимися на северном побережье Черного моря греческими колониями.
Эти изменения вели к становлению новой, раннеклассовой системы общественных отношений. Ключевые позиции в ней сохраняла высшая прослойка вождей-жрецов, постепенно превращающихся в князей-первосвященников. Происходили, конечно же, и коренные изменения во всем комплексе религиозно-мифологических представлений. На протяжении I—VI вв. до н. э. жизнь на Правобережье Среднего Поднепровья становилась все более упорядоченной и организованной, общество богатело и увеличивалось в своей численности. Возрастала плотность населения, развивались пышные культовые церемонии, связанные в первую очередь с почитанием огненной стихии. Все это позволяет думать, что в условиях перехода к железному веку (археологически соответствует времени распространения на данной территории памятников чернолесской культуры) из трех пар основных богов выдвигаются на первый план их стабильные, покровительствующие мирной, упорядоченной сельскохозяйственной жизни персонажи: Сварог — Дажьбог — Род. Они соответствовали сакральной власти князей-жрецов, светским функциям военно-административного аппарата и мирному труду оседлых земледельцев.
Это, естественно, не означает, что их более буйные и непостоянные в своем отношении к людям напарники Стрибог, Перун и Велес были преданы забвению. Судя по роли последних двух в эпоху раннего средневековья, этого, конечно, не произошло. Однако названная тройка должна была на определенное время отойти на второй план. По мере укрепления и структурного упорядочения общества чернолесской культуры, жизненные центры которого сосредоточивались по среднему течению Днепра, а территория распространения охватывала обширные пространства лесостепной зоны от Днестра до Северского Донца, небесный Сварог должен был затмевать Стрибога — носителя хаотического начала. Эти процессы протекали в условиях успешного противостояния на протяжении II—VIII вв. до н. э. кочевникам-киммерийцам, против которых на юге лесостепи были воздвигнуты крепости-городища. Упорядоченный мир, структурированный «космос» праславян успешно противостоял разрушительному «хаосу» кочевых орд степняков и дремучих, болотистых чащоб севера — Припятско-Деснянского Полесья, отделявшего праславян от основного массива расселения древнебалтских племен.
Эти же причины должны были и обеспечить выдвижение на первый план Дажьбога по отношению к его антиподу в поднебесном мире. Прямо названный в Ипатьевской летописи «царем», он своим размеренным движением, постоянством и заботой об урожае непосредственно вносит в мир то упорядочивающее, разумное начало, которое в небесах воплощает его отец — Сварог. В этом смысле ближайшим греческим аналогом Дажьбога выступает Гелиос — Аполлон. Перун же — бог буйной дружинной молодежи — при явной доминанте в обществе административно-жреческой власти князей-первосвященников пока что находится на втором плане — приблизительно как греческий Apec, которого Зевс слегка недолюбливает.
В условиях рассматриваемого общества по-новому возрастает значение и второго Сварожича — Огня, индоарийского Агни. Именно он становится покровителем важнейшего, определяющего с первой половины I тыс. до н. э. уровень производства и обороноспособности страны железоделательного и кузнечного ремесел. Иными словами, он становится праславянским Гефестом, богом-мастером, покровителем находящихся в это время еще под непосредственной властью адмистративно-жреческой знати ремесленников.
Не менее ощутимы и преимущества земледельческого Рода по отношению к «скотьему богу» Велесу. Уже во II тыс. до н. э. возможности скотоводства на территории лесостепи были исчерпаны. Поголовье стад было строго ограничено как имевшимися в наличии пастбищами, так и возможностями заготовки кормов на зимний сезон. Основой экономического роста общества чернолесской культуры, равно как и органически вырастающего на его основе раннеклассового социального организма среднеднепровских «сколотов» — «лесостепных скифов», земледельцев-пахарей, с начала I тыс. до н. э. становится земледелие. Продуктивность его все более возрастала по мере успехов в производстве железных орудий труда. Естественно, что при этом в широких народных массах все более усиливается почитание обеспечивающих «хлеб насущный», «низших» с точки зрения космо-социальной иерархии, но важнейших для обеспечения и продолжения жизни Рода-Отца и Матери-Земли. Велес же не только покровитель, но и похититель скота в эпоху угрозы со стороны стремительно нападавших, сжигавших посевы и угонявших стада кочевников мог даже в какой-то степени ассоциироваться со степной угрозой — с тем Змием, которой так часто фигурирует в славянских легендах и сказках. В будущем, в первые два века существования Киевской Руси, он будет покровителем имущества, частной собственности, прибыли, основной формой которых в древнейшие времена был скот. Однако в условиях праславянского общества I тыс. до н. э. частная собственность в строгом смысле слова была еще весьма неразвита. Административно-жреческая знать пользовалась материальными благами благодаря контролю над общественными фондами и ресурсами, но не по праву собственников. Источником материального благополучия всех была урожайность земли. Это и выдвигало почитание Рода на первый план.
Относительно образов хтонических божеств «нижнего» мира важно отметить их потенциальную связь с миром мертвых, сохраняющих, вместе с тем, какую-то форму жизни в своем загробном существовании. Очевидно, это в равной степени относится и к Роду, и к Велесу. Для архаического мышления противопоставление жизни и смерти весьма относительно, окончательного исчезновения человеческого «я» как такового люди той эпохи не представляли. Хотя бы в форме «тени», как думали древние семиты или греки гомеровского периода, человек существовал и в «том мире». В тенденции, его загробная жизнь связывалась с порождающими жизнь силами природы, как это прекрасно иллюстрирует пример древнеегипетского Осириса — бога умирающей и воскресающей природы и вместе с тем царя и справедливого судьи мертвых. В древнеславянском пантеоне, как отмечал Б.А. Рыбаков, ему в полной мере должен был соответствовать именно Род. В этом смысле Мать-Земля, вероятно Мокошь, должна была выполнять роль, аналогичную Изиде, Деметре, Астарте, Иштар и т. д., которые не смотря на все их несходство в частных аспектах, выступали в первую очередь как богини земного плодородия.
Прямое отношение к миру мертвых, судя по всему, имел и Велес. Это особенно хорошо изучено на его балтском образе — Велсе, средневековом литовском Вялнисе — хозяине подземного мира, связанном с идеей смерти и плодородия. В балтской мифологии, складывавшейся без воздействия более ранних древнеземледельческих представлений эпохи энеолита, сугубо аграрное божество типа праславянского Рода не фигурирует. Сохраняя свою изначальную природу «скотьего бога», хтонический Велс-Вялнис становится в равной степени и богом плодородия, и хозяином загробного мира. У праславян в этой функции выступает прежде всего Род (своеобразный Осирис или Минос), однако определенную роль играет и Велес. Многие функции, как показал М.В. Попович, сближают его с фракийско-эллинским Гермесом. Последний, как и Велес, является похитителем скота, антиподом бога-змееборца, покровителем движимого имущества, богатства, частной собственности — скота, богом торговли и вместе с тем проводником душ в загробный мир. Весьма вероятным представляется предположение, что именно таким и было «разделение функций» между двумя хтоническими божествами загробного мира праславян: если в целом «стабильный», «статичный» Род как порождал, так и вновь принимал души умерших в свою обитель, то «мобильный», «подвижный» Велес, как и Гермес-Меркурий, сопровождал их на «тот свет».
Такое допущение выглядит еще более убедительным, если учитывать праславянскую концепцию трех «душ», реконструированную М.В. Поповичем. Он указал, что у них, как, очевидно, и у всех древних индоевропейцев, человеческое «я» мыслилось как состоящее из нескольких, обычно трех взаимосвязанных, но и автономных относительно друг друга сущностей. Они представляют собою на уровне их осмысления в древнегреческой и древнеиндийской философии разумную, чувственную и вегетативную «души», располагающиеся соответственно в голове, груди и нижней части тела. Их участь различна после гибели организма. Высшая душа (аналог древнеегипетской «ба», изображавшейся в виде птицы с человеческим лицом) отлетает в загробный мир; средняя, как и ее древнеегипетский двойник «ка», существует какое-то время и после смерти тела (она-то и может стать привидением, упырем, вампиром), тогда как низшая погибает вместе с остановкой сердца. Сходные взгляды мы находим не только у древних египтян, индоевропейских, финно-угорских и тюркских народов, но отчасти и у древних китайцев и даже у мексиканских индейцев. Поэтому такого рода концепцию смерти-бессмертия души следует рассматривать, скорее, как стадиальное явление в развитии духовной культуры, характерное для самых различных (хотя, вероятно, и не всех) предклассовых и раннеклассовых обществ.
Итак, наиболее вероятной представляется следующая структура пантеона праславянского общества лесостепной Украины эпохи раннежелезного века.
Верхний мир
1. Сварог — верховный бог неба, отец Дажьбога-Солнца и Огня-Сварожича, носитель верховной власти в ее сакральном, жреческом, магически-юридическом аспекте, бог упорядоченного космоса, справедливости и законности, благорасположенный к людям, но стоящий несоизмеримо выше их. Его имя имеет общий корень с именем индоарийского грозного небесного бога Варуны и древнейшего греческого Урана-неба и этимологически почти совпадает с древнеиранским «сварга» — небо. Этим он близок к небесному аккадско-хурритско-хеттскому Ану. Однако по своим функциям он скорее аналогичен второму небесному богу индоариев Митре. По мере трансформации в эпоху становления раннеклассовых отношений он превращается в ближайшего аналога древнегреческого Зевса и архаического римского Юпитера. Сварог может быть также сопоставлен с зороастрийским Ахура-Маздой и скифским Папаем.
2. Стрибог — отошедший на второй план небесный бог разбушевавшейся стихии, «хаоса», магических заклинаний, чьи действия могут обернуться и во зло людям. Таинственное могущество и непостоянство сближает его древнейшую форму с образами индоарийского Варуны и древнегерманского Одина, в соответствии с тем, как их реконструирует Демюзиль. Возможно, он является братом Сварога и отцом Перуна.
Судя по аналогиям с другими языческими, в первую очередь индоевропейскими, религиозно-мифологическими концепциями, у них, вероятно, должны были быть жены. Однако ничего определенного о них сказать пока не удается, хотя можно допустить, что супругой Сварога была богиня домашнего очага, покровительница семьи.
Средний мир
1. Дажьбог — верховный бог поднебесного пространства, бог солнца, обходящий и согревающий землю, следящий за соблюдением на ней установленного его отцом священного правопорядка. В этом смысле он связан с идеей светской, административной власти в обществе, использующей по мере необходимости и военную силу по отношению к врагам. В индоарийском пантеоне к нему ближе всего стоит Солнце-Сурья, а в греческом (микенского и гомеровского периодов)—Гелиос, постепенно сливавшийся с восточносредиземноморским Аполлоном. Его близким аналогом является хеттский солнечный бог, тождественный вавилонскому Шамашу. Ближе всего Дажьбог, очевидно, находится к иранскому Митре ахеменидского времени — воителю Ахура-Мазды, а также в меньшей степени к Аполлону-Гелиосу классической Греции.
2. Перун — второй из владык среднего уровня космоса, буйный и непостоянный бог грозы, битвы и победы, победитель Змия (чем близок Индре, Аполлону, Тору, вавилонскому Мардуку, позднеиранскому Митре, не говоря уже о его полном балтском аналоге — Перкунасе). В хеттской и индоиранской мифологии известны божества с близкими именами. Однако они достаточно рано были оттеснены на задний план другими персонажами. Функционально (кроме, естественно, Перкунаса) на ранних этапах Перуну максимально соответствовали индоарийский Индра и хеттский Тешуб, фактически уже во второй половине II тыс. до н. э. являвшимися главными у этих народов, а также грозный древнегерманский Тор. У ранних славян высшей властью Перун наделяется, очевидно, лишь в эпоху раннего средневековья, довольствуясь в условиях праславянского общества ролью античного Ареса-Марса. В общих чертах ему соответствовал, как можно предположить, описанный Геродотом культ бога войны кочевых скифов, имевший, впрочем, в их обществе гораздо более важное значение. Будучи богом дружин и их предводителей, Перун в аграрно-патриархальном обществе праславян относительно Дажьбога должен был играть вторую роль.
3. Огонь-Сварожич — сын Сварога и брат Дажьбога, сперва, очевидно, полный аналог индоарийского Агни, но в эпоху освоения металлургии приобретающий функции греческого Гефеста (по аналогии с которым был переосмыслен и римский Вулкан). Огонь-Сварожич выступает в роли покровителя ремесленников и, возможно, шире — прикладного мастерства, оказываясь, соответственно, прямо подчиненным по своему «социальному статусу» носителю светской административной власти Дажьбогу (своему «старшему брату») и конечно небесному отцу, владыке-жрецу Сварогу. Очевидно, его статус как «ремесленника» был несколько ниже, чем у «воина» Перуна.
На этом уровне, кроме других богов (Месяца, различных ветров и т. д.), должны были фигурировать и основные женские божества. Среди них одна должна была выполнять функции Афродиты-Венеры (реализуя эротический аспект богинь древнеземледельческих культур Изиды — Инанны — Иштар — Астарты — Анахиты и т. д.). Возможно, она была не только ближайшим аналогом, но и прототипом скифской Афродиты — Аргимпасы. Вероятно, ее образ восходит к изящной девушке «Коре» трипольской пластики, а Перун (Дажьбог?) сражается с Велесом (Змием) именно из-за нее. Правомерным представляется сближение этого образа с Ладой, богиней весны, радости, любви, пробуждающейся природы раннесредневековых славян. В системе праславянской религиозно-мифологической концепции образ такой богини, возможно, дочери Рода и Мокоши, представляется совершенно необходимым. Какими-то своими чертами (как богиня пробуждающейся природы) она была близка и греческой Артемиде — юной охотнице в делосско-дельфийском осмыслении этого образа. Поэтому, на наш взгляд, древнеславянская Лада представляла собой недифференцированное единство функций Афродиты, Артемиды и Коры-Персефоны без выделения экстатически-эротического, стыдливо-целомудренного и растительно-вегетативного начал.
Нижний мир
1. Род — главное хтоническое божество аграрного общества, выполняющее функции подателя урожая, прародителя душ живых и покровителя, «царя» и, возможно, даже «судии» усопших. Очевидно, его отдаленным предком был небесный бог плодородия трипольских племен, низвергнутый и загнанный в подземный мир индоевропейскими Сварогом или Стрибогом. Он имеет аналоги в хурритской и хеттской мифологиях, согласно которым старый бог неба, будучи побеждаемым своим соперником, отнимающим у него власть, скрывается в Нижнем мире. Несмотря на такое «перемещение», Род, точнее, его отдаленный прототип посттрипольской эпохи, становится главным объектом почитания крестьянских масс во времена раннежелезного века. В мировой мифологии, как отметил Б.А. Рыбаков, его ближайшими параллелями выступают египетский Осирис и сиро-финикийский Ваал, но сходные черты усматриваются и в образе фракийско-фригийского варианта Диониса — Сабазия, также связанного с идеей плодородия и загробного существования. Род, хотя и не игравший основной роли в «официальном» культе, в сознании земледельческих масс представлялся одним из ведущих. Фактически для крестьян Род и был главным богом, дающим им жизнь и обеспечивающим благополучное загробное существование.
2. Велес — древнейший балто-славянский скотий бог, изменчивый и непостоянный, покровитель стад (как и их похититель), бог богатства и торговли. Очевидно, в условиях праславянского мира он воплощал вторую, скотоводческую сторону хозяйственной жизни, будучи связанным и с земным плодородием. Он же — второй бог умерших, их провожатый в загробный мир. В этом он, являясь славянской формой балтского Велеса, аналогичен греческому Гермесу и римскому Меркурию. При этом не исключено, что уже тогда ему была присуща роль покровителя тайных знаний и «черной магии» — «волхования», что еще более могло сближать его с Гермесом, ставшим в эпоху эллинизма хранителем «оккультных истин» — Гермесом Трисмегистом.
Женским божеством этого уровня бытия можно почти с уверенностью считать Мокошь — Мать-Землю — несколько деградировавший вариант Великой Богини-Матери энеолитических культур балкано-малоазийского энеолита. Скорее всего, Мокошь считалась супругой Рода. Не исключено, что она после «низвержения» Рода могла оказаться соотнесенной с изгнавшими его с неба Сварогом или Стрибогом, став Роду «сестрой». Это было несложно осуществить и в силу того, что древнеземледельческие богини жизни и плодородия, какими в эпоху энеолита выступали балкано-малоазийские Гея, Рея и Кибела — разновидности Великой Матери богов, являлись одновременно и сестрами (порою даже матерями) своих небесных супругов. По мере того как их мужья лишались власти, они трансформировались в земледельческих богинь типа Деметры и Изиды, подобно переднеазиатским Астарте и Иштар, заменившим древнейшую шумерийскую Инану. Сюда же, к своим возможным родителям, или, напротив, к похитителю Змию-Велесу могла на зиму спускаться и Лада, вновь возрождающаяся весною к жизни и любви.
Конечно, реконструированная подобным образом праславянская религиозно-мифологическая система является в лучшем случае правдоподобной гипотетической схемой. Необходимо учитывать, что в разных частях древнеславянского (как и древнеиндийского, древнеиранского, древнегреческого и т. д.) мира функции, образы и имена богов могли заметно различаться. Отдельные персонажи, вероятно, заимствовались из религий соседних народов (скифов и дако-фракийцев — на востоке, кельтов и иллирийцев — на западе праславянского мира). Однако без разработки такого рода модели не представляется никакой возможности разобраться в мировоззрении ранних славян I тыс. н. э. — той эпохи, когда воспрянув после катастрофического потрясения, связанного с крушением под ударами кочевников всей системы социально-экономических, политических и культурных отношений праславянского общества, они начинают вырабатывать уже новые религиозные концепции. В значительной степени эти концепции определялись военно-дружинным бытом знати и развитием торгово-ремесленной деятельности средних слоев населения при исчезновении возглавлявшей общество в скифское время прослойки административно-жреческой аристократии, а также усиливающимся воздействием сперва позднеантичной культуры, а затем и христианства.
3. Среднеднепровские славяне в первом тысячелетии нашей эры. Кризис язычества
Скифское царство, вступившее в V в. до н. э. на путь постоянных грабительских войн, все более нуждалось в материальных средствах. Это должно было приводить к усилению даннической эксплуатации его «вассалов», в том числе и праславянских княжеств Лесостепной Украины. С этим, очевидно, и был связан начинающийся в V в. до н. э. упадок экономики и культуры Среднего Поднепровья, а в середине следующего столетия укрепленные поселения праславян на данной территории погибают под ударами скифов. Не исключено, что причиной опустошительного похода последних могло послужить восстание местного населения или отказ его правителей выплачивать чрезмерно обременительную дань как раз в те годы, когда скифский царь Атей вынашивал честолюбивые планы завоевания Балканского полуострова. Однако, начавшее войну с Македонией из-за власти над Фракией, само Скифское царство вскоре терпит сокрушительное поражение от войск Филиппа, отца прославленного Александра, а девяностолетний Атей погибает в бою. Вслед за этим из-за Дона к Днепру начинается переселение сарматов, так что несколько оправившиеся после разгрома скифы удерживают за собой в последние века до нашей эры только степной Крым и долину Нижнего Днепра.
Коренные изменения происходят и в жизни населения Среднего Поднепровья, разоренного скифами и в последующие века отрезанного от греческих колоний Северного Причерноморья кочевниками-сарматами. В этих условиях при весьма вероятном притоке какого-то населения из более западных областей, при определенном культурном воздействии центральноевропейских кельтско-иллирийских княжеств на территории северной Украины формируется общество, оставившее памятники зарубинецкой (раннеславянской) культуры.
В условиях постоянной военной опасности, при распаде прежних социальных связей и гибели политических структур скифского времени отдельные семьи объединяются уже, очевидно, не столько на основе кровно-родственных связей, сколько по принципу обеспечения совместной безопасности, в небольшие соседские общины, укрывающиеся от неприятеля в труднодоступных лесистых и болотистых местах, на крутых останцах речных берегов. Отдельные семьи, владея уже достаточно совершенными железными орудиями труда, ведут самостоятельное хозяйство, а общие дела решаются на сходках глав семей, совместно с оружием в руках отстаивающих безопасность своих жен и детей. На время военных действий должны были избираться в качестве предводителей наиболее опытные и уважаемые люди, осуществлявшие, очевидно, и раздел трофеев. Однако, не имея экономической власти над соплеменниками, такие лидеры еще не выступали в роли эксплуататорской верхушки. Все это и представляло собой военную демократию в ее классическом виде.
К этому же времени относится возобновление имевших место в скифское время тесных экономических и, вероятно, политических контактов населения Украинской Лесостепи с ближайшими античными центрами: греческими городами северного Причерноморья и римскими Балкано-Дунайскими провинциями. Местное население увеличивало производство экспортируемого хлеба. Причем провинциально-римские торговцы расплачивались монетами, которые во множестве находят на территории Среднего Поднепровья. В раннеславянском обществе лесостепной полосы первых веков нашей эры развиваются многие виды ремесел, в том числе и связанные с заведомо рыночным характером реализации их продукции (гончарство), растет социально-экономическое неравенство, возникают ранние формы эксплуататорских отношений. У представителей военной знати должны были появляться рабы — военнопленники. Однако в производственной сфере рабский труд не получил заметного распространения. Основной формой эксплуатации в перспективе должно было оставаться взимание военно-политической знатью натуральной ренты-налога с лично свободных, ведущих самостоятельное хозяйство общинников. Однако в первые века нашей эры этот процесс только намечался.
Гуннское нашествие, разорившее и опустошившее земли Предкавказья, Северного Причерноморья, Нижнего и Среднего Подунавья, практически не задело территории Лесостепной Украины. Стремившиеся к римским границам орды прошли южнее. Анты (как раннесредневековые авторы называли местных славян — полян и их союзников), очевидно, признали власть кочевников. Однако после распада державы последних в 50-х гг. V в. анты обрели независимость. К этому времени ими уже были заселены области не только Лесостепной Украины, но и земли к северу от Нижнего Дуная. В начале VI в. славяне — склавены и анты — вплотную столкнулись с византийскими пограничными отрядами. Как сообщает Прокопий Кессарийский, вскоре после вступления на престол императора Юстина I (что произошло 10 июля 518 г.) «анты…, перейдя Истр (Дунай), с большим войском вторглись в ромейскую землю». Посланное против них византийское войско нанесло им тяжелое поражение. Картина резко изменилась с первых лет правления Юстиниана (527—565), когда, согласно тому же Прокопию, «гунны, склавины и анты почти ежегодно совершают набеги на Иллирик и Фракию», разоряя земли «вплоть до предместий Константинополя, в том числе и Элладу». Другой современник этих событий, Иордан, также пишет о «ежегодном упорном натиске со стороны булгар, антов и склавинов». Несмотря на все усилия византийского правительства, к середине 30-х гг. Дунай, как сообщает Прокопий, «стал доступен для переходов варваров по их желанию, и римские владения совершенно открыты для их вторжения».
Однако натиск славян был несколько ослаблен вспыхнувшими в начале 40-х гг. распрями между склавенами и антами. Этим незамедлительно воспользовалось византийское правительство. В 545 г. к антам были отправлены послы, объявившие о согласии Юстиниана пожаловать им крепость Туррис и прилегающие земли Нижнего Подунавья, выплатить крупные денежные суммы. Взамен они потребовали соблюдения мира и совместных действий против кочевников.
С этого времени на протяжении VI в. и ряда последующих столетий многочисленные славянские отряды регулярно нанимались на византийскую службу, где, естественно, знакомились с общественной организацией и религией империи. Прокопий, описывая войну ромеев с готами, упоминает, что однажды на помощь командовавшему византийскими войсками в Италии Велизарию прибыл отряд в тысячу шестьсот всадников: «Большинство из них были гунны, славяне и анты, которые имеют свои жилища по ту сторону реки Дуная». Агафий Миринейский, рассказывая о византийско-персидской войне, сообщает об успешных действиях командовавшего отрядом в 600 всадников анта Дабрагаста, занимавшего высокий пост военного трибуна, и отличившегося в бою славянина Сваруны.
Для правильного понимания уровня общественного и культурного развития славянского общества VI в. (как антов, так и склавенов, у которых, по словам Прокопия, «вся жизнь и законы одинаковы») следует учитывать, что после каждого удачного похода на Византию славяне «уходили домой, уводя с собой бесчисленные десятки тысяч пленных». Часть их потом возвращалась за выкуп, но многие оставались среди славян, заручаясь покровительством представителей местной знати и вместе с тем оказывая воздействие на их культуру и образ жизни.
Роковым событием в истории антов было вторжение аварских полчищ в Восточную, а затем и Центральную Европу, где они подчинили часть склавенских племен в Среднем Подунавье.
Борьба антов и авар продолжалась на протяжении всей второй половины VI в. Во время очередной аварско-византийской войны в 602 г. каган, по сообщению Феофилакта Симокатты, отдал распоряжение «истребить племя антов, которые были союзниками ромеев». Получив этот приказ, часть войск (вероятно, славяне, не пожелавшие сражаться против своих соплеменников) перешла на сторону императора. Мы не знаем, состоялся ли карательный поход, однако больше упоминаний об антах в источниках не встречается. Славяне Нижнего Подунавья в VII в. сплачиваются в союз «семи племен», признающий верховенство Византии. Появившиеся на этих землях протоболгары хана Аспаруха, разбив императорские войска в дельте Дуная, подчинили входившие в этот союз племена, составившие ядро образовавшегося в 681 г. Болгарского государства.
Одновременно на исторической арене появляется Русь. Название это восходит, очевидно, к роксоланам, осевшим в Среднем Поднепровье, по Роси и Тясмину, еще в первых веках нашей эры и вскоре славянизировавшихся точно так же, как и позднее протоболгары в Подунавье. Впервые название Русь появляется в сирийском источнике середины VI в. — «Церковной истории» Псевдо-Захарии, который к северу от Приазовья помещает отличающийся силой и воинственностью народ росов.
Археологическим эквивалентом складывающейся на основе среднеднепровского массива славянских племен Руси VI—VII вв. является, согласно Б.А. Рыбакову, так называемая культура пальчатых фибул и связанные с ней многочисленные богатые клады по берегам Роси и Ворсклы. Они свидетельствуют о достаточно сильной социально-имущественной дифференциации и существовании прослойки военных вождей-князей с их дружинами. Следует предполагать, что в условиях постоянного натиска со стороны кочевников представители военной знати должны были контролировать значительную часть общественного прибавочного продукта. Вероятно, они опирались на лично зависимых неполноправных членов общества — всевозможных изгоев, и пленных иноплеменников, выпавших из системы общинных структур и искавших покровительства властьимущих.
Военно-политическая федерация славян Среднего Поднепровья конца VI — первой половины VIII в., называемая в современной науке «Русская земля», становится естественным центром притяжения славянских племен южной половины Восточной Европы. Ее ядром являются земли на Роси, Тясмине и Ворскле. На южном и северном рубежах Русской земли вырастают укрепленные военно-политические и торгово-ремесленные центры: Киев, контролирующий район слияния Днепра, Припяти и Десны и выступающий в роли связующего звена между русами лесостепи и славянскими «племенными княжениями» лесной зоны, а также Пастырское городище, прикрывающее лесостепное правобережье Днепра со стороны степи.
Концом VI — началом VII в. датируется повествование армянского историка Зеноба Глака об основании Киева, в общих чертах совпадающее с рассказом, приводимым в древнерусских летописях. Исходя из этого факта и опираясь на другие исторические и археологические материалы, Б.А. Рыбаков и П.П. Толочко считают наиболее вероятным временем основания Киева годы правления Юстиниана I. Согласно «Повести временных лет», после смерти Кия и его братьев (приблизительно в третьей четверти VI в., в эпоху аварских войн) их потомство стало держать княжение у приднепровской части славян. Киев постепенно превращается в столицу складывающегося Древнерусского государства.
Такое понимание развития древнеславянских племен I тыс. н. э. позволяет предполагать усиление роли культа дружинно-княжеского Перуна, а также Велеса, выступающего уже не столько в качестве «скотьего бога», сколько в ипостаси покровителя богатства как такового, получаемого благодаря торговым операциям, ремесленному мастерству и т. п.
Очевидно, у раннеславянских племенных объединений лесостепи — полян-антов, а также у ассимилируемых ими оседающих в Среднем Подненровье скифо-сарматов, немалую роль должен был играть и архаический, но жизнестойкий культ исконной земледельческой пары божеств — Рода и Мокоши, Матери-Земли. Ее имя Б.А. Рыбаков трактует как Макош — «Мать урожая», отмечая, что слово кош означало плетенный амбур, корзину для зерна и т. д. Естественно, что основными их почитателями были широкие крестьянские массы, чья жизнь и благосостояние зависели от урожаев зерновых. По мере развития торговли они становятся заинтересованными в максимальном росте производительности своего труда. Кроме того, появление постоянных дружин предполагало обеспечение продуктами питания военной прослойки во главе с князьями. Имя одного из них — Божа, называет Иордан, описывая события конца IV в.
Как видим, новая общественная структура имела мало общего с трехчленной структурой индоевропейской архаики. Характер ее в основных чертах должен был вырисовываться уже в антско-полянское время второй трети I тыс. н. э. и в полной мере раскрыться в первые века существования Древнерусского государства. Во главе общественной жизни находились уже не облеченные сакрально-магической властью «цари-первосвященники», выводящие свое происхождение от богов и имеющие в глазах людей неоспоримое право на власть и собственность, на трудовые и материальные ресурсы коллектива. Их место занимают военачальники-князья.
Прежде монолитная прослойка рядовых общинников, ранее слабо дифференцированная по роду занятий и имущественному положению, с развитием частнособственнических отношений, ремесел, торговли и специализации самой сельскохозяйственной деятельности, подвергается не только социально-экономическому расслоению, но и распадается на два социальных слоя. Их составляли основная масса крестьянства и численно незначительная, но предприимчивая и энергичная торгово-ремесленная прослойка, группирующуюся в раннегородских центрах. Дружинно-княжеский детинец окружается торгово-ремесленным посадом — подолом, который и обеспечивает развитие военно-политической ставки в городской центр, как это происходит в Киеве последних веков I тыс. н. э.
Итак, на смену индоевропейской социальной системе, основанной на иерархии жрецов, воинов и общинников-производителей материальных благ, вполне реализовавшейся в праславянском обществе и распавшейся вместе с его гибелью, в I тыс. н. э. приходит формирующаяся структура раннефеодального общества. Основными классами ее выступают военно-административная знать и выплачивающая ей земельную ренту-налог крестьянская масса. Промежуточное положение между ними занимала складывавшаяся прослойка городского люда, значение которой резко возрастало по мере развития производительных сил феодального общества. Логика историко-материалистического осмысления религиозно-идеологического развития раннеславянского, антско-полянского и сменяющего его на территории Среднего Поднепровья преддревнерусского общества, вплоть до создания в конце VIII — начале IX вв. Киевской Руси как сложного раннефеодального социального организма, требует выделения и основных богов, отвечающих условиям новой системы отношений. Ими, очевидно, и является триада Перун—Велес—Род — боги соответственно княжеско-дружинной верхушки, складывающейся торгово-ремесленной прослойки и широких, еще сохраняющих патриархальный общинно-родовой уклад крестьянских масс.
Следует отметить, что почитание этих трех богов военно-политической власти, торгово-ремесленного процветания и крестьянского благосостояния в равной степени относится к основной массе, если не ко всем славянским племенам и раннегосударственным образованиям Восточной Европы, особенно тем, которые были расположены по Днепровско-Волховскому и Днепровско-Западнодвинскому торговым путям. Постепенно, на протяжении столетий, начиная где-то с рубежа н. э., продвигавшиеся вверх по Днепру, Десне и их притокам Раннеславянские общины несли с собой навыки земледелия и, соответственно, почитание аграрного бога Рода, равно как и Перуна, Велеса и прочих своих покровителей. На новых землях, в лесах вплоть до Приильменья, верховий Волги и Оки, они встречали и постепенно ассимилировали восточнобалтские группы, почитавшие как основных богов Перкунаса и Велеса. Приобщаясь по мере развития черной металлургии к подсечно-огневому, а затем и пашенному земледелию и постепенно славянизируясь, они перенимали и культ земледельческого Рода, узнавая в Перуне и Велесе своих собственных богов. В результате Перун, Велес и Род, а также Мокошь и некоторые другие божества становятся структурной основой общего для восточных славян пантеона кануна и периода сложения Киевской Руси.
Нельзя забывать и о воздействии на духовный мир ранних славян мировоззрения людей позднеантичной, а затем византийской и даже, в какой-то степени, с конца VIII в. мусульманской цивилизаций. Активные торгово-экономические и военно-политические связи населения территории Лесостепной Украины с Балкано-Дунайскими провинциями Римской империи имели место главным образом на протяжении II—IV вв. н. э. К этому времени относятся находки отдельных статуэток позднеантичных божеств. Однако нет достаточных оснований говорить о распространении их культов в районах Поднестровья и Поднепровья. Скорее всего, на территории Украины, как и в других внешнепериферийных по отношению к римским границам регионах, от Германии до Закавказья и Эфиопии, происходил процесс отождествления местных божеств с их ближайшими аналогами из эллинистическо-римского пантеона. В Изиде поляне могли увидеть Ладу или Мокошь, но, вероятно, гораздо большую роль в развитии их религии должен был сыграть торжественный и величественный, открытый для лицезрения всех культ Юпитера, почитавшийся в римских легионах по Карпато-Дунайской границе. Громовержец Зевс-Юпитер, Юпитер Лучший, Величайший, естественно, должен был ассоциироваться в сознании раннеславянских вождей-князей и их дружин с почитаемым ими богом грозы Перуном. Авторитет оказывавшей мощное воздействие на все сферы жизни лесостепных славян позднеантичной цивилизации, опиравшийся на мощь императорских легионов, должен был тем более способствовать распространению в высших слоях антско-полянского общества идей о высшей власти Перуна-Юпитера-Зевса над миром богов и миром людей. Объективно это способствовало вызреванию монотеистических тенденций, дающих о себе знать, согласно Прокопию Кесарийскому, уже в первой половине VI в.
Языческое капище на Старокиевской горе. Последние века I тыс. до н. э. Реконструкция В.В. Хвойки
Характеризуя религиозные воззрения антов и склавинов, официальный историограф юстинианова царствования писал: «Они считают, что один только бог, творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она по отношению к людям имеет какую-либо силу… Они почитают реки и нимф, и всякие другие божества, приносят жертвы всем им и при помощи этих жертв производят гадания». Не следует, естественно, полагать, будто эти слова во всем верно отражают сущность верований рядовой массы полян середины I тыс. Однако можно не сомневаться, что такие суждения высказывали в «личных беседах» с самим Прокопием или, как минимум, с его информаторами представители антской знати. Они посещали Константинополь с дипломатическими целями (как Кий, согласно летописному повествованию) или находились на службе, в том числе и во главе отрядов императорских войск (подобно упоминавшемуся анту Дабрагасту). Характер «личных впечатлений» выдает пассаж удивленного историка о безразличии антов к идее судьбы, игравшей, как явствует из его произведений, огромную роль в мировоззрении самого Прокопия.
Определенное впечатление на славян, штурмовавших Дунайскую границу Византии, в VI в. должно было произвести и христианство. Христианский бог в то время уже в роли верховного хранителя империи заменил старого Юпитера-Зевса. В этом образе он был вполне понятен уже привыкшим к военной власти дружинникам. Мозаичные иконы богоматери с младенцем на руках, прототипами которой были эллинистические богини-матери, рождали привычные ассоциации с дающим жизнь женским божеством. Распятый же и воскресший Иисус мог быть осмыслен в соответствии со знакомой каждому земледельческому народу мифологемой умирающего и воскресающего бога растительности. Если раннее христианство во всех своих основных моментах должно было быть чуждым и даже антипатичным представителям всех слоев антского общества, то пышное, величественное православие времен Юстиниана могло быть по-своему осмыслено представителями Полянской знати VI в, Да и богатство церквей вызывало не только желание захватить эти сокровища, но и уважение к какому-то бесконечно далекому и чужому, но владеющему в каждом городе несметными ценностями богу.
В VI—VIII вв. славяне целыми отрядами нанимались на службу в императорские войска и не приходится сомневаться, что известная их часть состояла из выходцев Поднестровья и Поднепровья. Проводя многие годы среди христианского окружения, они в той или иной форме воспринимали и его представления. Возвращаясь домой, они выделялись широтой кругозора и своего рода «свободомыслием» по отношению к традиционным культам. Некоторые из них» приняв пусть даже и весьма своеобразно понятое христианство, могли сохранять ему верность и надеялись тем самым заслужить загробное блаженство. Многие воины могли приводить с собой невольниц-христианок, которые, становясь матерями, оказывали влияние на становление мировоззрения собственных детей. Среди пленных христиан оказывались люди» вскоре входившие в доверие к племенным князьям и имевшие на них достаточно заметное духовное влияние. Все это на протяжении второй трети I тыс. н. э. еще, конечно, не определяло мировоззрения восточнославянского общества как такового, однако подготавливало почву для восприятия христианских и, шире» монотеистических идей в IX—X вв.
Немалую роль в этом процессе должны были сыграть торговые связи между единственным уцелевшим центром позднеантичной цивилизации в Северном Причерноморье — Херсонесом-Херсоном и вырастающим в Среднем Поднепровье формирующимся раннефеодальным социальным организмом — «Русской землей».
На основании сказанного нетрудно представить» что во второй половине I тысячелетия языческое мировоззрение начинало испытывать трудности. Характер их определялся как внутренними процессами социально-экономического и политического развития восточнославянского общества на Среднем Поднепровье, так и во все большей степени проблемами, которые выдвигало знакомство с религиями других, в том числе и более развитых, обществ.
Складывавшееся Древнерусское государство, как и всякий раннеклассовый социальный организм, тем более сложный, объединявший несколько былых «племенных княжений», нуждалось в религии, сплачивавшей его различные иерархически соподчиненные социальные группы и территориально-этнические составные части. Но старое язычество практически не могло этому способствовать.
Культы Перуна, Велеса и Рода во второй половине I тыс. н. э. были связаны с ценностями, чаяниями и идеалами не всего общества, а его отдельных прослоек. Разобщенность и почти не скрываемая антипатия друг к другу этих идейных течений прямо-таки удивительна. Перуна почитает складывающаяся военно-феодальная прослойка. Идолы этого бога стоят на возвышенных местах, символизируя его могущество и превосходство над всеми остальными божествами, и прежде всего над Велесом, названным в летописи «богом остальной», т. е. не княжеско-дружинной, Руси. Кумиры двух этих антиподов никогда не бывают вместе. Судя по древнерусским сказаниям, антипатия между князьями и волхвами (служителями и адептами Велеса) носила открытый характер. Но если с Велесом государственному аппарату еще приходилось считаться, то крестьянский, земледельческий Род, почитавшийся огромным большинством трудового населения Киевской Руси IX—XI вв., даже не фигурирует на страницах официальных документов. Языческая религия славян второй половины I тыс. н. э. не только не консолидировала выделявшиеся социальные группы, но, скорее, разъединяла их, что тормозило процесс общественного развития.
Кроме того, Киевская Русь уже к середине IX в. и тем более в следующем столетии включала не только полян-русов Среднего Поднепровья, но и многие другие «племенные княжения» восточных славян. У них, наряду с общезначимыми Перуном, Велесом и Родом, должны были почитаться и местные боги — покровители городов и деревень, лесов, рек и т. д. Даже культ богов, общих для всех восточных славян, в каждом княжении неизменно имел вполне обособленный характер: Перун или Велес должны были восприниматься именно как покровители данного конкретного коллектива, а не всей Руси или тем более всех народов. Каждое племя и каждый род держались за свои местные святыни-святилища, что, естественно, идеологически питало сепаратистские устремления местной знати, тем самым поддерживая центробежные силы в рамках едва оформившегося раннегосударственного образования. Понятно, что и в этом плане старославянское язычество объективно тормозило развитие новых, в ту эпоху бесспорно прогрессивных феодальных отношений, и консолидацию Древнерусского государства.
При этом не следует забывать, что уже на начальных этапах существования Киевской Руси в ее состав входили и многие неславянские (балтские и финно-угорские на севере и северо-востоке, аланские и, возможно, тюркские на юге и юго-востоке) этнические группы, почитавшие своих богов. Централизованному государству нужна была единая религия, стоящая выше национальных различий и предрассудков. Но язычество по своей природе всегда было национальной религией.
По мере расширения внешних связей и соответственно кругозора представителей княжеско-боярских, дружинных и торговых кругов формирующегося Древнерусского государства восточнославянское язычество должно было испытывать и идейные трудности. Переходу к раннеклассовым (в данном случае раннефеодальным) отношениям в сфере общественного сознания соответствовали тенденции к осмыслению и систематизации религиозных представителей в рамках упорядоченных по иерархическому принципу теологических конструкций, устанавливающих функции, соотношение и соподчинение между основными божествами. При этом, по мере усиления центральной власти, некое верховное с точки зрения того или иного народа божество все более должно приобретать черты единого бога монотеистических религий, обремененного, как правило, сонмом старых второстепенных богов и богинь. По такому пути развивались древние религии Египта и Индии. Эти процессы в некоторых случаях (например, в древнем Иране периода деятельности Заратуштры и его сподвижников, и в Иудее в канун и после «Вавилонского пленения») выливались в глобальные религиозные реформы. В ходе их верховный бог объявлялся единственным, а остальные божества превращались в его послушных агентов — «ангелов», лишенных индивидуальных отличий.
Другой путь был характерен для позднеантичного мира (эпоха религиозного синкретизма), когда происходил процесс широкого взаимоотождествления основных богов многочисленных народов Средиземноморья на основании сходности их функций. В результате специфические, национально-отличительные черты богов как бы «выносились за скобки», а их сугубо абстрактные свойства через философское осмысление упорядочивались в системе глобальной мистико-умозрительной доктрины. Это хорошо видно на примере неоплатонизма, ставшего идейной базой христианской теологии поздней античности и раннего средневековья.
Такие же тенденции в определенной степени могли проявляться и в рамках сложившегося Древнерусского государства. Не без влияния соседних народов, исповедующих монотеистические религии, некоторые жрецы Перуна или Велеса, а то и Рода могли считать своих богов главными или даже «единственными» в том смысле, что остальные боги являются их ипостасями-формами или воплощениями. Как показал Б.А. Рыбаков, в XI в. Род рассматривался некоторыми убежденными язычниками творцом Вселенной, вдохнувшим жизнь в людей, одновременно связанным с небесной, земной, водной и огненной стихиями, загробной участью людей и сопоставимым с египетским Осирисом и библейским Саваофом.
Тот же исследователь дал трактовку символики знаменитого Збручского идола. Суть ее сводится к тому, что его фаллическая форма символизирует глубинные жизненные силы бытия, образом которых выступает сам Род, а изображения на сторонах кумира представляют его конкретные формы-ипостаси — отдельных, соотнесенных друг с другом и размещенных по уровням мироздания богов и богинь. Если принять эту трактовку, то перед нами вырисуется идейная концепция, в известной степени приближающаяся к представлениям жрецов Египта II тыс. до н. э. и умозрительным построениям древнеиндийских брахманов, отраженным в текстах «Упанишад» и затем переосмысленных в философской системе веданты.
Однако в условиях средневековья возникающим раннефеодальным обществам незачем было проходить весь сложный путь идейных исканий своих предшественников — народов древнего мира, которые самостоятельно вырабатывали религиозно-идеологические формы, адекватные условиям господства классовых отношений. Они могли воспользоваться опытом и багажом соседних цивилизаций, чья духовная жизнь определялась, а социально-экономическая структура оправдывалась доктринами монотеистических религий. Уже в IV в. н. э. так поступили Армения, Грузия и даже эфиопское государство Аксум, правящая знать которых приняла христианство и стремилась к его распространению среди народных масс. Правящими домами этих царств христианство воспринималось не в той форме, в какой впервые было выражено экзальтированными проповедниками грядущего конца света среди отчаявшихся масс больших средиземноморских городов, но в такой, в какой оно постепенно утверждалось в сознании высшей знати Старого и Нового Рима. Тем более это должно было происходить во второй половине I тыс., когда византийское православие, изжив или до конца выхолостив идейное содержание раннего христианства, превратило его в универсальную доктрину господства столичной помещичье-бюрократической знати во главе с наполовину обожествленным императором Византии.
Как исходная идейная концепция, такая религия объективно могла устроить всякое раннеклассовое государство. Вот почему и Руси незачем было переделывать, улучшать и видоизменять свое язычество, когда можно было просто перенять византийское христианство. Однако, с другой стороны, само восприятие православия восточнославянским миром в решающей степени определялось их исходным языческим мировоззрением. Христианство могло восприниматься язычниками только сквозь призму их собственных интересов и представлений, будучи переведенным на доступный язык образов и понятий. Восприятие византийского вероучения неизбежно протекало в форме его славянского «оязычивания». Это вело и к становлению новых, преодолевавших языческие структуры сознания идейных форм.
Христианство в Киеве до вокняжения Владимира Святославича
1. Сторонники и противники христианства на Руси
Какие же силы на Руси были проводниками христианского мировоззрения и какие противились его проникновению и распределению? Отвечая на этот вопрос, мы должны не только использовать имеющиеся в распоряжении историков и археологов фактические данные, проливающие свет на отдельные моменты длительного процесса утверждения христианства на Руси. Необходимо исходить также из общетеоретического, социологического понимания расстановки и борьбы сословно-классовых групп и прослоек в древнерусском, раннефеодальном обществе. Вопрос может быть сформулирован так: кому было выгодно принятие монотеистической религии и чьи интересы такая акция ущемляла?
Традиционный ответ на этот вопрос общеизвестен: христианство было выгодно господствующим классам, а значит, его принятие в качестве официальной идеологии укрепляло власть эксплуататоров над эксплуатируемыми. Однако ограничиваться этим означало бы упрощать проблему. Остановимся лишь на нескольких моментах.
Во-первых, в среде господствующего класса древнерусского общества эпохи перехода к монотеизму принятию христианства противились мощные и влиятельные группировки как в столице, так и в отдаленных племенных центрах. Параллельно наиболее развитые и для уровня своей эпохи культурные, широкомыслящие слои трудового народа — Торгово-ремесленный люд киевского посада — оказались достаточно восприимчивы к новой религии.
Во-вторых, христианство, освящая своим авторитетом укрепление новых раннефеодальных отношений, вместе с тем способствовало смягчению самих форм отношений между господами и рабами-холопами, особенно иноплеменными, которых, согласно языческим представлениям, можно было вообще не считать за людей, приносить в жертвы или просто убивать. Не малой была, очевидно, и роль христианства в сокращении (вплоть до полного прекращения) древнерусской работорговли, приобретавшей, как о том можно судить по мусульманским, а отчасти и по византийским источникам, в IX—X вв. внушительные масштабы. Торговцы-русы ежегодно поставляли на невольничьи рынки Востока сотни и тысячи захваченных или полученных в виде дани людей, большую часть которых составляли славяне из других, более слабых племен. Христианство же, проповедуя равенство перед богом безотносительно к национальности и социальному статусу, укрепляя раннефеодальную систему в целом, вместе с тем (и в конечном счете на благо последней) в какой-то мере препятствовало проявлению жестокости в обращении между людьми.
В-третьих, создание и расширение влияния единой в масштабах всей Киевской Руси церковной организации, выступавшей в целом по византийскому образцу идеологическим органом проведения политики столичных властей, объективно способствовало централизации и консолидации восточнославянских групп в рамках единого государственного организма, что, бесспорно, имело прогрессивный характер. В рамках последнего легче было защищать границы от набегов кочевников, развивать торговые связи и межрегиональное разделение труда, распространять грамотность и книжные знания, воспринимаемые образованными кругами Киева из передовой для эпохи раннего средневековья византийско-болгарской культуры, неотделимой от христианского мировоззрения. А это, естественно, было на благо не только представителя?»! господствующего класса, но и широких кругов народных, особенно городских масс. Религиозно-церковное единство сыграло свою роль и в сохранении в эпоху феодальной раздробленности и последующих времен татаро-монгольского ига идеи единства православной Руси — Земли Русской, и формирующихся на ее территории трех народностей: русской, украинской и белорусской.
Принятие христианства конечно способствовало развитию феодальных отношений и укреплению Древнерусского государства. Однако в исторической перспективе этот процесс безусловно был прогрессивным, выводящим восточнославянское общество раннего средневековья на новую ступень социально-экономического и культурного развития.
Причины распространения христианства среди восточнославянских племен, в первую очередь на территории наиболее тесно связанного с Причерноморьем Среднего Поднепровья, обусловлены характером происходивших на Руси глобальных общественных перемен в ходе становления и развития феодальных социально-экономических структур, утверждения прочной государственной власти и формирования городских центров. Старые языческие представления уже не отвечали духовным запросам раннефеодальной эпохи. В основе своей, несмотря на выделение культа дружинного Перуна и торгово-посадского Велеса, они ориентировались на быт патриархальных деревень, едва знакомых с элементарными формами социально-имущественного неравенства, всецело связанным с тысячелетиями отшлифованным циклом сельскохозяйственных работ и соответствующими ему повседневными обрядами и ритуалами. Представления о мире этих людей, за исключением, конечно, тех, кто отправлялся в далекие походы или занимался заморской торговлей, обычно ограничивались традициями собственных родов и деревень, а кругозор не выходил за рамки общинных территорий.
Вместе с тем сложение военно-феодального сословия князей и их дружинников, появление городских торгово-ремесленных слоев ставили новые не только социально-экономические и административно-политические, но и идеологические задачи, к решению которых традиционное язычество было неподготовлено.
Во-первых, требовалось религиозное обоснование и оправдание системы господства и подчинения, приобретающей все более наследственный, сословный характер.
Во-вторых, на всех уровнях социальной иерархии в эпоху становления и развития государственных форм организации и городских центров все более возрастало количество людей, оторванных от своих родов и общин, постепенно утрачивающих связь с патриархальными культами и нуждающихся в новых формах идеологического объяснения и обоснования правомерности своего жизненного пути.
В-третьих, в посадских кварталах и при княжеском дворе скапливалось все большее количество выходцев из иных этносов (аланы, варяги, вероятно, балты, возможно, тюрки и финно-угры, летописная «чудь»). Оказавшись в инокультной среде, они отходили от своих старых религиозно-мифологических воззрений, но вместе с тем не могли стать искренними и убежденными адептами славяно-русских божеств, ничем не лучших, чем кумиры их собственных народов.
В-четвертых, в древнерусских городах все более частыми гостями становились последователи монотеистических учений — купцы и даже переселявшиеся в Киев ремесленники из христианского Причерноморья, в первую очередь торговцы вином, растительным маслом, соленой рыбой и дорогими тканями из Корсуни-Херсона, выходцы с Поволжья и Прикаспия — хазарские иудеи и мусульмане, как средне- и переднеазиатские, так и с начала X в. волжские булгары. Одновременно и купцы-русы активно утверждались на Черноморском и Каспийском рынках, знакомясь с идеями христианства, иудаизма и ислама. У восточнославянского язычества появлялась мощная идейная конкуренция, противопоставить которой зачастую было нечего.
И, наконец, в-пятых, по мере углубления классового антагонизма в самом древнерусском обществе, что наиболее рано и явственно начало происходить в городах, особенно в Киеве, увеличивалось число неполноправных клиентов или вовсе бесправных холопов. Языческие представления и суеверия уже не могли дать их сознанию решительно никакого утешения и обоснования личной трагедии в психологически приемлемых формах. С точки зрения язычества неудачи и страдания человека однозначно связываются как с его собственными недостатками, так и с антипатией или, как минимум, безразличию к нему высших сил. Христианство же в возвышенных тонах предлагало нравственное оправдание и даже возвеличивание страдания, провозглашая высшим подвигом стойкое, мужественное несение своего жизненного бремени каждым человеком в глазах всемогущего Бога. Пример безвинного страдальца Иисуса, воплощенного в юдоли скорбей божества, демонстрировал относительность и условность мирских благ, их эфемерность перед лицом смерти, загробного суда и вечной жизни. Эти воззрения могли распространяться в низах древнерусской столицы IX—X вв. в связи с тем, что среди рабов, холопов и челяди знатных русов какое-то число должны были составлять и иноземцы-христиане — выходцы из Крыма, Византии, Балкан и Подунавья, а возможно, и Кавказа, захваченные в походах или купленные у регулярно нападавших на эти земли кочевников Причерноморья.
Все эти процессы объективно вели к сложению двух отмеченных Б.А. Рыбаковым культур древнерусского общества: феодально-городской, открытой внешнему миру и активно усваивающей достижения более развитых соседних, главным образом уже христианских, народов, и патриархально-деревенской, упорно держащейся за свой традиционный быт, верования и культы.
В социальном смысле первая была представлена собственно военно-феодальным слоем, князем и служилой дружиной военно-административной прослойкой лиц. Будучи выходцами из самых различных общественных и даже этнических групп, они выдвинулись в первые эшелоны власти благодаря личным качествам и благорасположению со стороны правителя. Далее — «деловые круги» среднеднепровских городов, особенно столицы, — как связанные с государственной службой (низшие звенья аппарата городского управления, сборщики податей, торговые агенты двора и т. д.), так и представители торгово-ремесленного люда. Наконец, неполноправные и вовсе бесправные члены общества, славяне и неславяне, оказавшиеся в личной зависимости от представителей знатных боярских родов или при домах богатых посадских людей. Все эти общественные категории в силу своего образа жизнедеятельности оказались уже оторванными от родо-племенных культов и по широте взглядов поднимались над средним уровнем крестьянского язычества. Они же в первую очередь и были заинтересованы в развитии государственно-феодальных отношений, расширении торгово-экономических связей в рамках Восточной Европы и вне ее, в преодолении общинно-племенной замкнутости и расширении простора для личной инициативы. Отдельные представители этих общественных групп первыми на Руси начинали приобщаться к культурному богатству соседних христианских и мусульманских народов, опиравшихся на богатейшее духовное наследие стран античного мира и Древнего Востока.
Но параллельно в древнерусском обществе были и вплоть до конца I тыс. преобладали не только численно, но и по своему весу в системе государственной власти общественные силы и социальные слои, чье реальное бытие и классовые интересы вполне соответствовали патриархальному язычеству. Ведь оно освящало власть общинной родо-племенной знати на местах, было близким и родным крестьянским массам по всей Руси, особенно в лесной зоне, еще практически не затронутой новыми системами отношений и идейными влияниями, шедшими из Причерноморья главным образом через Херсон, а также из соседней Дунайской Болгарии. Степень социально-имущественного неравенства в сельских общинах и удаленных от Киева лесных «племенных княжениях» не была еще столь высока, чтобы воспрепятствовать общему выражению антипатии к новым идеологическим формам со стороны рядовых общинников и первенствующих среди них знатных родов, органически связанных с патриархальными культами и местными святилищами, поддерживающих и в определенной степени составляющих жреческое сословие. Тяготясь наложенными на них великим князем данями и повинностями, они потенциально составляли главную оппозиционную по отношению к установлению новых форм общественной организации силу, склонную к сепаратизму и неповиновению столичной администрации. На эту старейшинско-жреческую прослойку, имевшую абсолютное влияние на крестьянские массы, и опирались как вассальные по отношению к киевскому правителю племенные княжеские династии на местах, так и могущественная, противившаяся самовластным устремлениям великого князя и его приближенных, аристократическая прослойка в самой столице Руси.
На многочисленных материалах исторически и этнографически изученных раннеклассовых обществ установлено, что на стадии вызревания и утверждения архаических политических систем между двумя группировками формирующегося класса эксплуататоров как правило возникает противостояние, борьба за власть и контроль над общественными ресурсами. Первая из этих групп — старая родоплеменная верхушка, связанная с местными общинными культами и через систему все еще значительных кровнородственных связей осуществляющая руководство жизнедеятельностью своих общин и племен. Вторая представлена военно-административной прослойкой, как правило безродных, но энергичных и не в столь сильной степени приверженных традиционным воззрениям проводников государственной политики.
В зависимости от конкретных исторических обстоятельств правители, опирающиеся на слой служилой знати, вынуждены в своей реальной деятельности ориентироваться на социальные интересы той или другой из этих групп. При медленном, постепенном перерастании сакрализованной власти вождей-жрецов в раннегосударственные формы управления, возглавляемые царями-первосвященниками, кланово-племенные формы управления могут удерживаться столетиями, а выделяющаяся военно-служилая прослойка долгое время играет второстепенную роль в общественной жизни. Такой, очевидно, была ситуация в праславянском обществе скифского времени. Однако при генезисе раннефеодальных структур в I тыс. н. э. решающую роль играли дружины военных вождей становящихся в перспективе князьями и королями раннесредневековой Европы. Естественно, что они опирались в первую очередь на своих боевых сподвижников. Однако при неразвитости структур территориально-административного управления эти вожди вынуждены были считаться и с инертной, но пользующейся авторитетом и реальной властью на местах прослойкой родо-племенных старейшин.
Учитывая такую расстановку социальных сил, нам будет гораздо легче разобраться в конкретном процессе идейно-политической борьбы на Руси в II—XI вв., органически связанном с проникновением и утверждением христианства. При этом, однако, следует оговориться, что общая тенденция прохристианской ориентации служилого слоя и посадского люда столицы при преданности язычеству родо-племенной знати и жречества в отдаленных местах далеко не означала, что каждый дружинник, купец или мастер были субъективно склонны к принятию христианства, тогда как тот или иной выходец из кругов родовой аристократии должен был быть стойким сторонником язычества. Нет ничего удивительного в том, что многим молодым воинам, поступавшим на службу к великому князю, христианские представления и идеалы были глубоко чуждыми. В то же время некоторые из занимавших высокие государственные посты родовитых бояр могли знакомиться с культурой соседних народов, и, разочаровываясь в идолопоклонстве, склонялись в пользу монотеизма.
Религиозное развитие нельзя понять без учета психологических моментов, определяющих субъективную склонность конкретных людей к тому или иному кругу идей. Многие из киевлян периода правления Ольги, сознательно принимавших в зрелые и преклонные годы христианство, должно быть, в молодости были всецело привержены идеалам силы и отваги, увлечены романтикой битв и одержимы жаждой военной добычи. Естественно, что тогда их кумиром был громовержец Перун.
Точно также далеко не все из ремесленников и торговцев киевского Подола или посадов Чернигова, Переяслава и Любеча, не говоря уже о новгородцах, смолянах или полочанах, готовы были по первому зову пойти за христианскими проповедниками. Многие из них преуспевали и под покровительством Велеса. Другие же, менее удачливые, могли опасаться, что, изменив «скотьему богу», они лишатся и того немногого, что имели. Нелегко было отказываться от воззрений, освященных авторитетом предков и грозных жрецов, признать кумиров своих отцов и дедов коварными бесами и вверить свою душу малопонятному иноземному божеству. Поэтому логично предположить, что многие горожане, увлекаясь христианской проповедью бессмертия и загробного справедливого суда, вместе с тем не порывали и с языческими культами, соблюдая традиционные ритуалы и в соответствующих ситуациях обращаясь с молитвами к богам предков или обожествленным предкам-прародителям.
Но самыми рьяными противниками христианства, как и любых других идейных новшеств, должны были быть жреческие круги. Имеющиеся фрагментарные сведения позволяют усматривать в них достаточно влиятельную общественную прослойку. Мусульманские авторы сообщают о том, что «царя русов» в Киеве окружают жрецы. Особую роль играла многочисленная прослойка волхвов, группировавшихся вокруг культа Велеса, — всевозможных гадателей и прорицателей, кудесников и знахарей, вероятно, мало отличимых в лесной зоне от шаманов финно-угорских народов. Владея тайнами народной медицины, используя психотропные средства и гипнотические приемы, такие люди во многих случаях действительно могли исцелять или давать подтверждавшиеся затем прогнозы относительно состояния здоровья, перемены погоды, перспектив получения урожая или опасности мора скота. С утверждением христианства они оказывались как бы «вне закона» и вынуждены были либо скрывать свой род занятий, либо уходить в глухие леса и пустоши. Понятно, что именно они были самыми активными, последовательными и непримиримыми врагами церкви и государства, вставшего на ее стороне с конца X в.
Определив состояние древнерусского язычества и позиции различных социальных групп в общественно-политической и идеологической борьбе, мы можем теперь приступить к рассмотрению истории противоборства язычества и христианства в Киеве и, шире, по всей Руси в II—XI вв.
2. Крещение Аскольда и захват власти Олегом
Становление молодого восточнославянского государства предполагало его утверждение и на международной арене. В общих чертах это произошло на протяжении первой половины — середины IX в. В конце VIII — начале IX в. русы появляются на Черном море и, как сообщается в «Житии св. Стефана Сурожского», разоряют южное побережье Крыма. Вполне возможно, что этот поход преследовал не только грабительские цели, но и обеспечение возможности ведения самостоятельной морской торговли Руси с Хазарией в обход Крыма, южное побережье которого находилось под властью Византии.
Вероятно, в результате названного или аналогичных подходов где-то в начале IX в. было установлено соглашение между Русью и Византией о прохождении торговых флотилий русов вдоль берегов Крыма. Об этом можно судить по сообщению арабского географа Ибн-Хордадбеха о русских торговцах, которые «вывозят бобровый мех, мех черной лисицы и мечи из самых отдаленных [частей] страны славян» к Черному морю. Там они платят таможенную пошлину византийским чиновникам, а затем через Дон и Волгу, уплачивая десятину в хазарской столице Итиле, выходят в Каспийское море и торгуют «на любом его берегу». При этом некоторые из них «привозят свои товары на верблюдах из Джурджана (Прикаспия) в Багдад, где переводчиками для них служат славянские рабы. Выдают они себя за христиан и платят джизию». Как показывают источники, в IX в. поездка купцов-русов в страны ислама была довольно частым явлением.
К 20-м или началу 30-х годов IX в. относится и описанное в «Житии св. Георгия Амастридского» нашествие Руси на северное побережье Малой Азии, в результате которого были разорены области от Босфора до Амастриды. Как отмечалось ранее, в это время Петрона предпринимает энергичнее усилия по укреплению византийской власти в Крыму и оказанию помощи Хазарии в сооружении на Дону крепости Саркел, призванной защищать ее северо-западные границы со стороны Руси. Однако в конце 30-х годов наблюдаем уже установление дружественных отношений между Византией и Русью, о чем можно судить по написанным французским монахом Пруденцием так называемым «Вертинским анналам». Под 839 г. в них сообщается о прибытии к франкскому императору Людовику I Благочестивому послов от византийского императора Феофила. Вместе с ним приехали и послы от русов, отправленные их правителем-каганом в Константинополь «ради дружбы».
Как пишет Пруденций, Феофил в сопроводительном письме «просил, чтобы император милостиво дал им возможность воротиться [в свою страну] и охрану по всей своей империи, так как пути, какими они прибыли к нему в Константинополь, шли среди варваров, весьма бесчеловечных и диких племен, и он не желал бы, чтобы они возвращаясь по ним, подверглись опасности». По происхождению послы были шведы («свеоны»), варяги. Однако, как отмечал уже М.И. Артамонов, о принадлежности самого посольства к Киевской Руси свидетельствует титул государя, их пославшего, — «каган» — неизвестный среди северных племен, но вполне понятный для среднеднепровских славян, находившихся ранее под властью, хазар. Этот же титул применительно к правителю русов употребляют мусульманские авторы X в. Ибн-Русте и ал-Мукаддаси. Кроме того, каганом торжественно величает князя Владимира древнерусский писатель XI в. митрополит Илларион. Принятием этого титула киевский великий князь заявил о своем равенстве с повелителем хазар.
Целью указанного посольства, считает исследовавший дипломатические связи Древней Руси А.Н. Сахаров, было установление дружественных, мирных отношений с Византийской империей, нарушенных после нападения русских дружин на Амастриду. О том, что послам удалось справиться со своей задачей, свидетельствует забота императора Феофила о том, чтобы они благополучно вернулись на Русь и, как надо полагать, передали своему кагану ответ византийского правительства.
В контексте все более усиливавшихся на протяжении первой половины IX в. связей Руси и Византии может быть объяснен и факт принятия христианства киевским правителем в 60-е годы IX в., засвидетельствованный в нескольких византийских исторических документах. Из древнерусских летописей известно, что в то время в Киеве правил Аскольд (Оскольд, Осколд), совершивший в 860 г. поход на Константинополь. Косвенным свидетельством, подтверждающим принятие христианства Аскольдом, является сооружение над его могилой церкви святого Николая. На этом основании В.Н. Татищев предположил, что Аскольд носил христианское имя Николай. Строительство названной церкви следует, как считает П.П. Толочко, отнести ко времени правления Ольги.
Вопрос о крещении представителей высшей знати Руси в 60-х годах IX в., после похода Аскольда на Константинополь, был обстоятельно рассмотрен в трудах дореволюционных историков (особенно в «Истории русской церкви» Е.Е. Голубинского). В последнее время эта проблема детально исследована в работах советских ученых, в частности в монографиях А.Н. Сахарова, П.П. Толочко и М.Ю. Брайчевского. Последний уделил данной теме особое внимание. Опираясь на выводы названных исследователей, можно утверждать, что крещение Аскольда и его ближайшего окружения, связанное с возобновлением мирных отношений Руси и Византии и присылкой православного проповедника в Киев, может считаться убедительно доказанным. Естественно, что данная акция главы государства должна была вызвать негодование консервативных слоев древнерусского общества, в первую очередь представителей жречества и родо-племенной знати. Они и организовали убийство князя и захват власти Олегом, приверженцем язычества.
Поход дружин Аскольда на Константинополь. Миниатюра Радзивилловской летописи
Аскольд, который, по сведениям средневекового польского историка Яна Длугоша, использовавшего не дошедшие до нас материалы, был прямым потомком и преемником власти Кия, выступает как могущественный и дальновидный политический деятель, обеспечивший Руси прочное международное положение. К сожалению, мы не знаем ни точной даты его прихода к власти, ни границ его княжества. Неясным остается и фигура его соправителя или, возможно, предшественника — Дира. При его княжении и, судя по всему, под его прямым руководством, флотилия русов 18 июня 860 г подошла к стенам Константинополя. Это был первый поход Руси на столицу империи ромеев.
Начавшаяся осада города повергла в ужас его жителей. Конечно, Новый Рим видел в прошлые века и куда более многочисленные и технически оснащенные полчища авар и склавенов, персов или арабов. Однако в этот раз драматизм положения состоял в том, что столицу практически некому было оборонять. Император Михаил III (в годы правления которого, как отмечалось ранее, в империи окончательно восторжествовало иконопочитание) со всем византийским войском сражался на границах с Сирией против мусульман. В Киеве, как показал А.Н. Сахаров, планируя столь масштабную акцию против Византии, безусловно учитывали это обстоятельство (что демонстрирует уровень организации «разведслужбы» на Руси уже в середине IX в.).
Состояние жителей Константинополя красочно описал очевидец тех событий патриарх Фотий: «Я вижу, как народ, грубый и жестокий, окружает город, расхищает городские предместья, все истребляет, все губит… Всеобщая гибель! Он, как саранча на жатву и как плесень на виноград, или, лучше, как зной, или Тифон, или наводнение, или не знаю, что назвать, напал на нашу страну… Где теперь царь христолюбивый? Где воинство? Где оружие, машины, военные советы, припасы? Не других ли варваров нашествие удалило и привлекло к себе все это? Царь переносит продолжительные труды за пределами [империи], вместе с ним отправилось переносить труды и войско; а нас изнуряет очевидная гибель и смерть, одних уже постигшая, а к другим приближающаяся».
Не менее интересны и слова, написанные уже после снятия осады, когда велеречивый патриарх в более спокойных тонах пытался осмыслить происшедшее: «Народ неименитый, народ несчитаемый [ни за что], народ поставляемый наравне с рабами, неизвестный, но получивший имя со времени похода против нас, незначительный, но получивший значение, униженный и бедный, но достигший блистательной высоты и несметного богатства… так грозно и быстро нахлынул на наши пределы, как морская волна, и истребил живущий на этой земле, как полевой зверь траву или тростник или жатву… О, как все тогда расстроилось, и город едва, так сказать, не был поднят на копье! Когда легко было взять его, а жителям невозможно защищать, то, очевидно, от воли неприятелей зависело — пострадать ему или не пострадать». «Спасение города, — писал далее патриарх, — находилось в руках врагов и сохранение его зависело от их великодушия…», и далее с горечью констатировал, что «город не взят по их милости и присоединенное к страданию бесславие от этого великодушия [неприятелей] усиливает болезненное чувство пленения». «Помните ли ту мрачную и страшную ночь, — риторически вопрошал Фотий, — когда жизнь всех нас готова была закатиться вместе с закатом солнца и свет нашего бытия поглощался глубоким мраком смерти?»
В эти тревожные дни император Михаил, оставив войска на востоке, смог пробиться к столице и вместе с Фотием всю ночь молился в храме Богородицы во Влахернах. С наступлением утра, сопровождаемые бесчисленными толпами молящихся они обошли городские стены. Как далее разворачивались события, мы достоверно не знаем. Однако, разграбив предместья столицы, русы не рискнули штурмовать ее. Кроме того, приближалась осень с непогодой и штормами, а воинам предстоял еще нелегкий путь домой. Во время одной из бурь заметно пострадал их флот. Жители Константинополя незамедлительно истолковали это как проявление «божьего гнева». Не исключено, что вскоре к столице должна была подойти и вся византийская армия, так что русы рисковали оказаться зажатыми между ней и городскими стенами. Вероятно, приближался к Мраморному морю из Средиземноморья и императорский флот, несущий на борту смертоносный «греческий огонь», неоднократно губивший ладьи русов в X и XI вв. Оставаться далее на берегах Босфора было небезопасно.
Все эти события описаны многими крупнейшими византийскими историками: Иоанном Скилицей, Иоанном Зонаром, Михаилом Гликом, Львом Граматиком и др., в том числе и упоминавшим о них спустя столетие императором Константином VII Багрянородным. При этом ни в одном источнике, как пишет проанализировавший их А.Н. Сахаров, нет сведений о поражении русов. Напротив, римский папа Николай I даже упрекал Михаила III за то, что враги, разорившие предместья столицы, ушли неотомщенными. Сам Фотий во второй своей проповеди говорил о том, что возмездие «варварам» не было воздано, а венецианский хронист Иоанн Дьякон отметил возвращение русов на родину с триумфом. О возвращении русского воинства из-под стен Константинополя сообщил и древнерусский летописец, не скрывая, вместе с тем, что этот поход многим стоил жизни.
Однако отход русских дружин еще не означал наступления мира. Их нападение могло повториться. Дабы обезопасить себя, византийское правительство пошло на переговоры, сопровождавшиеся посылкой в Киев богатых даров. Спустя столетия об этом писал Константин Багрянородный: «народ росов, воинственный и безбожный, посредством щедрых подарков, золота и серебра и шелковых одежд» император привлек к переговорам и, заключив с ними мирный договор, убедил (их) сделаться участниками божественного крещения и устроил так, что они приняли архиепископа».
Известия о крещении Руси в эпоху Аскольда мы находим не только у Константина Багрянородного. Об этом писали современники и, что особенно важно для нас, сам патриарх Фотий, который и должен был заниматься подготовкой этого мероприятия, отправкой миссионеров, а затем главы новой епархии.
Вот что спустя пять лет после нашествия русов на Царьград писал красноречивый пастырь в «Окружном послании», не без гордости сообщая народу о своих церковно-дипломатических успехах: «И не только этот народ [болгары] променяли первое нечестие на веру в Христа, то даже и многие многократно прославленные и в жестокости и скверноубийстве всех оставляющие за собой так называемые русы, которые, поработив находящихся кругом себя и отсюда помыслив о себе высокое, подняли руки и против Ромейской державы, — в настоящее время даже сии променяли эллинское и нечестивое учение [язычество], которое содержали прежде, на чистую и неподдельную веру христианскую… И до такой степени в них разыгралось желание и ревность веры, что приняли епископа и пастыря и лобызают верования христиан с великими усердием и ревностью».
По византийским источникам можно проследить и сам ход принятия христианства определенной частью верхушки древнерусского общества во главе с каганом-князем. Византийское правительство вскоре после нашествия русов на столицу щедрыми дарами склонило киевского правителя к заключению типичного, как показал А.Н. Сахаров, для дипломатической практики тех веков договора о «мире и любви». «Немного времени спустя, — пишется в одной из хроник, — посольство их [русов] прибыло в Царьград с просьбой сделать их участниками в святом крещении, что и было исполнено». Очевидно, речь шла о присылке в Киев проповедников христианской веры, в пользу которой начинал склоняться Аскольд.
При этом ни о каком насильственном навязывании православия Руси речь идти не могла: дружины русов ушли с берегов Босфора непобежденными, и византийцы, очевидно, первыми пошли на дипломатическое урегулирование конфликта. Кроме того, Русь была вне сферы досягаемости византийского оружия, так что опасаться мести со стороны империи не приходилось. Поэтому следует признать, что проявлявшийся в середине 60-х годов IX в. киевским правительством интерес к принятию христианства проистекал сугубо из его собственных интересов — из осознания выгод принятий новой религии, соответствующей условиям раннефеодальных общественных отношений. Не стоит забывать, что в эти самые годы и два других, равномасштабных относительно Руси славянских государства — Болгария и Великая Моравия — приняли христианских пастырей.
Перу Константина Багрянородного принадлежит и описание деятельности христианской миссии в столице русов. По его словам, архиепископ был принят благосклонно: «Князь этого народа, созвав собрание подданных и председательствуя с окружавшими его старцами, которые по причине долгой привычки более других привержены были к суеверию, и рассуждая о своей вере и вере христиан, призывает и спрашивает [архиепископа], что возвестит и чему будет их учить». Епископ изложил суть христианского учения и рассказал о чудесах, после чего русы потребовали чуда. Тогда в костер было брошено евангелие, оставшееся столь же невредимым, как и побывавший в печи на глазах херсонеситов епископ Капитон. Убедившись в чуде, русы крестятся. Аналогичный рассказ содержится и в сочинении Иоанна Зонары. Его воспроизводит и русская Никоновская летопись.
Абстрагируясь от почти обязательного в сказании о крещении любого народа мотива «чуда», мы из этого краткого отрывка можем почерпнуть несколько интересных факторов. Князь открыто способствовал успеху христианской миссии, любезно приняв проповедника и обеспечив ему «широкую аудиторию» в составе старцев и прочих влиятельных людей. Сам он выглядел достаточно (конечно, для правителя раннего средневековья) «образованным» и даже «свободомыслящим» человеком, способным по такому случаю произнести «вступительную речь», содержащую рассуждения о язычестве и христианстве. Главными противниками принятия новой веры выступили «старцы» — представители племенной знати, связанной с традиционными культами и жречеством. Общее собрание влиятельных, причастных к власти русов приняло христианство. По логике вещей, если родовая знать была против этого, то сторонниками новой веры должны были быть служилые люди княжеского окружения, его соратники по походу 860 г. Стоит отметить и дипломатичность поведения самого князя: будучи инициатором крещения русов, он, вместе с тем, старается не прибегать к открытому давлению и, отступая как бы на второй план, организует дело так, что его сторонники из дружинного сословия, составляя большинство в его столице, будто бы сами, от лица всех русов, ратуют за крещение вопреки протестам оппозиции.
Однако крещение Аскольда и его сподвижников было лишь первым актом в наполненной драматическими событиями более чем вековой борьбе между прохристианскими и проязыческими силами на Руси. Широкие массы и первенствующие среди них главы знатных родов — в провинциальных центрах и по глухим деревням, в самом Киеве, в находящихся под непосредственной юрисдикцией великого князя ближайших к столице градах (Чернигове, Переяславе, Родне, Любече) все еще были привержены старым культам. Многим, очевидно, не нравились вводимые в Киеве по византийскому образцу обычаи, что было естественно и неизбежно в период активного государственного строительства и развития городских форм жизни.
Смена религии должна была восприниматься огромным большинством населения как измена обычаям и заветам предков, прямое надругательство над их памятью. Это, по всей видимости, усугублялось глухим протестом против поборов, неизбежно усиливавшихся при росте военно-административного аппарата, развитии потребления импортных товаров при дворе и связанного с этим резким увеличением внешнеторгового товарооборота. Происходившее в 60—70-е годы IX в. развитие общественной жизни на Руси означало усиление эксплуатации в форме роста налогового гнета и широкого привлечения масс общинников к выполнению трудовых повинностей, ломку традиционного патриархального жизненного уклада. Кроме того, усиление реальной власти служилой прослойки в столице и на местах подрывало позиции родо-племенной знати. Новые силы были еще недостаточно могущественны по сравнению с инертным монолитом патриархальных структур. Оппозиция оказалась вполне жизнестойкой, чтобы справиться с князем-реформатором.
Важные события в то время происходили и на севере. К середине I тыс. н. э. волны славянской колонизации докатились до Поильменья, достигли берегов Чудского, Ладожского, Онежского и Белого озер. На первых порах отдельные славянские общины составляли меньшинство среди местного охотничье-рыболовского финно-угорского населения, именуемого в летописях «чудью».
Северные славяне, фигурирующие, в источниках под названием просто словен, являлись, очевидно, выходцами из самых различных племен. Они принесли с собой более прогрессивный земледельческо-скотоводческий уклад и сохранили экономические связи с более южными общинами. Быстро освоившись на новых местах и используя лесные богатства севера Восточной Европы, северные славяне включились в торговлю с «Русской землей» по течению Ловати и Днепра. Сбывая в среднеднепровские грады меха, мед, воск, деготь и прочие продукты промыслов, они сами остро нуждались в продуктах земледелия, менее продуктивного на севере. С юга, через Киев, должны были поступать в Приильменье и товары роскоши из Причерноморья. Вполне вероятно, что среди устремившихся на север за пушниной землепроходцев-колонистов многие были выходцами из Среднеднепровской Руси, чья правящая верхушка в условиях активизации торговли с мусульманским Востоком и Византией с конца VIII в. все более остро нуждалась в пушнине для экспорта.
Вскоре у Верхнеднепровских и Приильменских славян появились и другие торговые партнеры. С середины VIII в. у слияния Волги и Камы начинает оформляться зависимый на первых порах от Хазарии новый раннеклассовый социальный организм — Волжская Булгария. Ее экономика ориентировалась на широкий экспорт в мусульманские государства Прикаспия и Средней Азии товаров лесной зоны, преимущественно мехов. Освоившие к началу IX в. волжский торговый путь мусульманские и иудейские купцы скупали меха у населения Верхневолжского и Камского бассейнов, устанавливая связи и со славянами Приильменья. Параллельно, с начала IX в., в Балтийском море резко активизируется деятельность вышедших на рубеж классообразования скандинавских народов, а также поморских западных славян, прусов и куршей Южной и Юго-Восточной Прибалтики. Князья, возглавлявшие дружины этих народов, промышляли грабительскими налетами на прибрежные районы Северной и Западной Европы, пиратством и торговлей. В древнерусских источниках они известны под собирательным названием варягов.
В середине IX в. варяжская экспансия в Прибалтике заметно усилилась, что сопровождалось развитием торговли между скандинавами, балтами и северными группами славян по Западной Двине и Неве — Волхову с последующим выходом через Днепр к Киеву и далее в Причерноморье. Нет ничего удивительного, что, проникая по рекам в глубь лесной зоны, варяжские дружины, терроризируя местные финно-угорские, балтские и славянские племена Севера, принуждают их к уплате дани, создают в отдельных местах свои опорные пункты власти.
Согласно тексту Ипатьевского списка «Повести временных лет» в 859 г. «варяги из Заморья» стали взимать дань с чуди и со словен, и с мери, и с кривичей, однако уже в 862 г. эти племена «изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть». Но вскоре между их родами начались распри и усобицы, приведшие к соглашению старейшин с варяжским конунгом-князем Рюриком (бывшим, по мнению П.П. Толочко, выходцем из западных, поморских славян), принявшим со своей дружиной по договору («ряду») с местной знатью власть над лесным Севером. Сперва он сел княжить в Ладоге, но спустя несколько лет перенес ставку в построенный по его приказу Новгород, точнее — «Рюриково городище», рядом с которым в то время и начал развиваться «новый город». При этом, вероятно, его доверенные люди с дружинами утвердились и в других градах Севера — на Белоозере и в Изборске.
В Приильменье и связанных с ним землях складывается противоречивая ситуация — чреватый постоянными распрями и конфликтами альянс между местной родо-племенной знатью и опирающейся на полиэтническую дружину княжеской династией. Это, естественно, должно было найти и идейно-религиозное выражение. Г.С. Лебедев пришел к интересным выводам: общественная жизнь северных словен того времени характеризовалась оппозицией княжеской и жреческой власти. Она выражалась в противостоянии двух верховных богов ранних славян — Перуна и Велеса, связанных с княжеским «верхом» — Рюриковым городищем в Приильменьи и его святилищем — Перынью, а также приладожскими низовьями Волхова — Велешей, где находилось святилище Велеса, бога смерти, леса, скота, богатства, торговли, поэзии. Нетрудно понять, что состоявшая преимущественно из славян, скандинавов и, вероятно, отчасти балтов дружина должна была поклоняться Перуну — двойнику северогерманского Тора, идентичному Перкунасу балтов. Но влиятельные торгово-промысловые круги и тесно связанное с ними местное жречество ориентировалось на почитание Велеса. Аналогичное состояние мы ранее реконструировали и для славян Среднего Поднепровья. С той лишь разницей, что в лесостепной полосе наряду с этими двумя божествами большую роль в крестьянской среде должен был играть и земледельческий Род.
Таким образом, в те годы, когда все внимание кагана Аскольда было сосредоточено на развитии отношений с Византией и внутренних преобразованиях, к северу от верховий Днепра и Западной Двины складывается второе военно-политическое объединение восточных славян. Оно возглавлялось варяжской династией и включало многочисленное финно-угорское население лесной зоны. В рамках этого объединения дружинно-княжеская знать и торгово-промысловая верхушка ориентируются на различные культы, однако принципы языческого мировоззрения в их сознании остаются пока незыблемыми. Родоплеменная аристократия в Киеве, недовольная политикой Аскольда, с симпатиями и надеждой обращает свои взоры на Север, вступая в тайные переговоры, возможно, еще с Рюриком. Однако в 879 г. Рюрик умирает и, по сообщению летописи, «передав княжение Олегу — родичу своему, — отдал на руки сына Игоря, ибо был тот еще очень мал».
Олег и его дружина клянутся перед идолом Перуна. Миниатюра Радзивилловской летописи
Факт сговора между родо-племенной знатью Руси и Олегом, жертвою которого пал Аскольд, в настоящее время не вызывает сомнений. Их контакт определялся тем, что оппозиция на юге тяготилась подрывающими ее власть и влияние мероприятиями (одним из которых и было принятие христианства) правителя-реформатора, тогда как северный князь, в руках которого должны были сосредоточиваться несметные пушные сокровища лесов, нуждался в выходе с ними на мировой рынок. Этот выход мог быть осуществлен по Волге или Днепру. Однако первый путь прочно удерживался булгарами и хазарами, тогда как в Киеве можно было без труда найти влиятельных сторонников.
Поход Олега на юг, датируемый летописцем 882 г., менее всего похож на завоевание. В источниках ни слова не говорится о вооруженных столкновениях. Города по Днепровскому торговому пути, в том числе и игравший ключевую роль в масштабах всей речной восточноевропейской торговли Смоленск, а также непосредственно прикрывавший Киев с севера Любеч отворяют свои ворота, а киевская знать сразу после коварного убийства вышедшего на переговоры с северным князем Аскольда провозглашает Олега своим правителем. Это означало торжество языческой реакции, опиравшейся на поддержку всех консервативных сил древнерусского общества.
Однако, судя по косвенным данным, с вокняжением Олега уже успевшее укрепиться в Среднем Подненровье христианство не было искоренено. Торговые интересы толкали князя на сближение с Византией, тогда как преследование христиан могло бы только повредить этим отношениям. Весьма проблематичным остается вопрос о характере русско-византийских связей в годы правления Олега. Вполне вероятно, что переворот 882 г. мог повлечь за собой временный разрыв между двумя державами. Есть достаточно оснований сомневаться в достоверности летописного сказания, изобилующего фантастическими подробностями, о походе Олега на Царьград в 907 г. Ни один из иностранных, в том числе византийских, источников об этом не сообщает и потому, вероятно, можно принять гипотезу М.Ю. Брайчевского о том, что летописец, стремившийся прославить князей новой династии, приписывал Олегу акцию Аскольда, о которой в народе сохранялись легенды. Вместе с тем, на наш взгляд, нет особых оснований сомневаться в достоверности русско-византийского торгового договора 911 г., восстанавливающего, очевидно, отношения «мира и любви» времен Аскольда.
Согласно сохранившимся данным, русские послы были направлены Олегом к правившим в то время в Константинополе императорам Льву, Александру и Константину «на удержание и на извещение от многих лет межи хрестьяны и Русью бывшою любви». Князь извещал, что хочет «удержати и известити такую любовь, бывшую межи хрестьяны и Русью многажды». Это означало его стремление к восстановлению прежних отношений. Возможно, что этому и предшествовали какие-то, в целом успешные для русов, судя по характеру договора, военные действия против империи — в Крыму или даже в союзе с болгарами на Балканах (в эти годы отношения между Византией и Болгарией были весьма напряженными). Кроме того, изнуренная тяжелыми войнами с арабами, взявшими и разорившими в 904 г. второй после столицы город империи — Фессалоники, Византия сама нуждалась в помощи Руси. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в момент заключения договора 911 г., как сообщает Константин Багрянородный, отряд русов в 700 человек принимал участие в военной экспедиции византийцев против критских арабов. Дружественные отношения между Русью и Византией сохранялись и на протяжении 20—30-х годов, когда константинопольский патриарх угрожал Болгарии нашествием венгров, алан, печенегов и русов, а находившиеся на службе у империи отряды русов принимали участие в войнах в Италии.
3. Христианство и язычество при первых Рюриковичах
Сравнительно непродолжительное обострение русско-византийских отношений относится к первой половине 40-х годов X в. Оно вылилось в опустошительную для приморских провинций Византии, но окончившуюся неудачей для войск князя Игоря войну 941 г. и поход 944 г. Последний был предотвращен византийскими послами, встретившими с богатыми дарами на Дунае русско-печенежское войско. Обострение вновь сменилось продолжительным миром, сохранявшимся обеими сторонами вплоть до конца 60-х годов X в. Во времена правления Игоря, которому удавалось поддерживать с печенегами мирные отношения, Русь прочно утвердилась в Северном Причерноморье, став непосредственным соседом крымских владений империи. Мусульманские писатели того времени прямо называют Черное море «Русским» и утверждают, что русы живут «на одном из его берегов», и никто, кроме них, по нему не плавает. Византия вполне учитывала реальные силы Руси в этом регионе и согласно заключенному между двумя державами в 944 г. договору киевский князь соглашался защищать Херсон от нападений со стороны кочевавших в Приазовье черных булгар.
Все это, разумеется, способствовало экономическому, политическому и культурному сближению Киева и Херсона. Вплоть до нападения печенегов на Киев в 969 г. между их ханами и Русью в целом соблюдались мирные отношения. Они основывались на выгодном товарообороте между земледельческой Лесостепью и скотоводческой Степью. Это благоприятствовало развитию торговли Руси с Крымом и собственно Византией. Небезынтересно отметить, что, по сообщениям Константина Багрянородного, в ходе торговли между Киевом и Константинополем реализовывались плоды княжеского сбора дани. Торговля проводилась с помощью водных путей по Днепру и Черному морю и всецело находилась в руках служилых людей великого князя. Экономические же связи между Киевом и Херсоном осуществлялись преимущественно корсунскими купцами. Они везли товары не только на кораблях, но и сухим путем: до брода у Днепровских Порогов, и далее уже по правому берегу реки, относительно густо (до печенежского нашествия 969 г.) заселенному славянами. Из Константинополя в столицу Руси поступали дорогие ткани, высококачественные ремесленные изделия, попадавшие в руки великого князя, его вассалов на местах, а также столичного боярства и служилой знати, вплоть до рядовых дружинников. Товары же, привозимые херсонцами — соль и соленая рыба, вино и оливковое масло, относительно недорогие ремесленные изделия, производившиеся в провинциальных городах Причерноморья, — расходились между средними торгово-ремесленными слоями Подола, попадая уже через них в отдаленные от речных транспортных артерий городки и деревни Руси.
Торговые отношения способствовали все более широкому проникновению христианства как в сознание придворных кругов служилой знати, так и в мировоззрение основной массы горожан, связанных с ремеслами и торговлей. В Киеве численно росла христианская община. Заинтересованные в торговле с Византией верхи относились к ней доброжелательно (как Игорь) и даже активно поддерживали ее (как христианка Ольга).
В русско-византийском договоре, датируемом летописцем 911 г., со стороны киевского князя христиане не фигурируют: дружинники и торговые люди клянутся на оружии Перуном и Велесом, из чего вовсе не следует, что на Руси в ту пору не было христиан. Их отсутствие в окружении Олега, пришедшего к власти на волне антихристианской реакции и по всему своему складу чуждого этой вере, естественно. После убийства Аскольда все ключевые посты в аппарате власти и управления перешли в руки язычников. При этом известно, что в уставе императора Льва IV Философа, правившего Византией в конце IX — начале X в., в числе подвластных константинопольской патриархии епархий под 61-м номером (правда, не во всех списках) числится и русская церковь.
Несколько больше сведений о христианах в Киеве мы имеем со времен Игоря. В заключенном им договоре 944 г. княжеские дружинники строго различаются на крещенных и некрещенных, причем христиане ставятся на первое место. В начале этого документа, где русские дают обязательство соблюдать мир, мы читаем: «Еже помыслити от страна Русския разрушити таку любовь, и елико их крещенье приняли суть, да примут месть от Бога Вседержителя, осужденье на погибель и в сий век, и в будущий; и елико их некрещено есть, да не имут помощи от Бога ни от Перуна». О том же сказано и в конце текста. Крещеная и некрещеная части дружины фигурируют и при описании самой присяги на верность договору — христиане клянутся в соборной церкви святого Ильи на Подоле, тогда как язычники — на своем оружии.
Проанализировав эти данные, Е.Е. Голубинский пришел к убедительному выводу: в окружении Игоря христиане если не численно, то по крайней мере политически преобладали. Они везде поставлены на первое место по сравнению с язычниками. Кроме того, они говорят от своего имени («Мы же, елико нас крестилися есмы…»), тогда как о язычниках упоминают в третьем лице («а не крещенная Русь полагают щиты своя…»). А это, по мнению исследователя, наводит на мысль, что и Игорь «должен быть отнесен к числу сторонников христиан или к числу христиан». Причем предпочтение отдается второму предположению, хотя и отмечается, что, став христианином внутренне, великий князь не решался продемонстрировать это открыто.
Вместе с тем, как справедливо отмечает П.П. Толочко, едва ли можно усматривать в Игоре «тайного христианина». Его благосклонность к христианству не вызывает сомнений. В противном случае среди его ближайших сподвижников не было бы столь значительного числа адептов новой веры. Однако сам он оставался язычником, что хорошо видно из летописной статьи 944 г., где говорится о клятве князя перед византийскими послами соблюдать договор с греками: «Заутра призва Игорь слы, и приде на холмъ, где стояше Перунъ, и покладоша оружье свое, и щиты и золото».
Немаловажен и тот подмеченный еще Макарием в середине прошлого века факт, что Ильинская церковь на Подоле в тексте договора названа «соборной». Следовательно, пишет он, «в Киеве были тогда и другие церкви, между которыми церковь св. Ильи считалась главною, или соборною». Это представляется вполне вероятным. В начале XI в. Титмар (правда, с чужих слов) писал о том, что в столице Руси в его время было более 400 храмов. Они естественно, не могли появиться за два десятилетия после крещения Владимира. Но если в Киеве в середине X в. был не один храм, то это уже говорит о наличии сравнительно многочисленной христианской общины со своими священнослужителями, возглавлявшимися епископом, подчиненным константинопольскому патриарху. В свою очередь, это косвенно подтверждает достоверность сведений о русской епархии в уставе Льва Философа.
О том, какого влияния в Киеве, а возможно, и в других городах Среднего Поднепровья в середине X в. достигает христианство, красноречиво свидетельствует общеизвестный факт открытого исповедания этой религии княгиней Ольгой. Она встала во главе Древнерусского государства после убийства ее мужа Игоря восставшими древлянами в 945 г. Княгиня осуществляла всю полноту гражданской власти фактически вплоть до своей смерти, наступившей за три года до гибели ее сына Святослава. Ее правление, охватывающее почти четверть века, было периодом мирного, но тем более глубокого и прочного укоренения христианства в среде славянства Среднего Поднепровья. Естественно, что княгиня была окружена доверенными лицами своей же веры, покровительствовала христианам-иностранцам и развивала всесторонние связи с христианскими державами, прежде всего с двумя империями: Византийской и Германской, или, как именовала последняя себя официально, «Священной Римской».
О крещении великой княгини источники содержат противоречивые сведения. Согласно древнерусской летописи, в 955 г. вдова Игоря совершила путешествие в Константинополь к императору Константину Багрянородному. Здесь она якобы и крестилась, причем самодержец византийский был настолько очарован ею, что предложил руку и сердце, однако в конце концов должен был довольствоваться лишь ролью ее крестного отца.
В этом рассказе содержится достаточно много фольклорных мотивов, а также заведомых неточностей. Однако сам факт визита Ольги в Царьград бесспорен: о нем подробно и обстоятельно пишет не кто иной как сам принимавший ее в своем дворце император Константин Багрянородный, из текста которого вытекает дата этого события 946 или 957 г. Последняя нам представляется более вероятной; едва ли Ольга, только что похоронив Игоря и усмирив древлян, рискнула бы покинуть Русь.
Прием Ольги Константином Багрянородным. Миниатюра Радзивилловском летописи
Обстоятельно описывая церемонии приема княгини, сопровождавшиеся банкетами и вручениями даров русским гостям, император ни словом не намекает на факт обращения Ольги в христианство. Естественно, если бы это событие имело место, то оно бы в первую очередь было отражено в его труде. Кроме того, источники сообщают, что в Константинополь великую княгиню сопровождал личный духовник — Григорий. Все это наводит на мысль о том, что во время своего визита в столицу Византии Ольга уже была крещеной и, как известно, принявшей христианское имя Елены. Согласно сообщению монаха Иакова, Ольга прожила христианкою 15 лет, а значит, христианство приняла в 954 или 955 г. Это подтверждает вероятность ее визита к императорскому двору именно в 957 г.
Мирная политика Ольги, направленная на укрепление дружественных связей Руси с соседними великими державами, отразилась не только в византийских, но и в западноевропейских источниках. Немецкие хроники второй половины X в. под 959 г. сообщают о посольстве к императору Оттону I от «Елены, королевы ругов» (русов). Причем их авторы осведомлены о ее недавней поездке в Константинополь. Исследователи предполагают также, что в годы ее правления в Киеве началось строительство новых храмов, как, например, церкви Софии, сгоревшей в 1017 г. На ее месте уже при Ярославе был воздвигнут сохранившийся до наших дней Софийский собор.
Эти и другие данные, содержащиеся в древнерусских и иностранных источниках, красноречиво свидетельствуют об искренней приверженности Ольги к христианству. Однако почему же она не сделала, казалось бы, необходимого для правительницы-христианки шага: не провозгласила христианство официальной государственной религией? Останавливаясь на этом вопросе, П.П. Толочко отмечает, что по уровню социально-политического развития Русь середины X в. вполне соответствовала принятию новой религии. Однако в условиях острейшей общественной и идейной борьбы между отдельными группировками господствующего класса решительный отказ от традиций мог привести к роковым последствиям, к восстаниям в отдельных землях (что и случилось, когда Владимир приказал крестить новгородцев) или даже к отстранению от власти, к смерти (как было с Аскольдом). Не менее существенными были и соображения национальной независимости: согласно представлениям правительства Византии, принятие каким-либо народом православной веры от константинопольской патриархии автоматически делало его вассалом империи. Перед глазами киевской знати был пример Болгарии, на властвование которой ромейская империя постоянно претендовала. Поэтому, опасаясь возможных внутри- и внешнеполитических осложнений, Ольга так и не решилась на введение христианства в своем государстве.
Летописец тепло отзывается о последних годах жизни Ольги. По его словам, она была кротка и богобоязненна. Умирая, княгиня завещала похоронить себя по христианскому обряду, без обычной языческой тризны. Однако можно не сомневаться, что 60-е годы X в. в Киеве и на Руси в целом проходили под знаком усиливающейся борьбы между проязыческими и прохристианскими силами, неотделимой от процесса укрепления государственности на Руси.
Еще Игорь в последние годы своего правления, опираясь на предводительствуемые Свенельдом наемные варяжские отряды, взял курс на упрочение владети Киева над все еще сохранявшими значительную автономию племенными княжениями, подчинил уличей и погиб от рук древлян. Ольга предприняла энергичные меры по усмирению «примученных племен», мстила древлянам и потом объезжала все киевские владения, восстанавливая повсюду порядок — «уставляя уставы и уроки». «И устави по Мсте погосты и дани, и ловища ея суть по всей земле, и знамение, и места по всей земле, и погосты, а санки ея стоять во Пьскове и до сего дни; по Днепру перевесища и села, и по Десне есть село ея доселе», — говорит о ее деятельности летописец.
Все эти акции означали не что иное, как создание на местах сети опорных пунктов великокняжеской власти. Через них киевское правительство непосредственно, а не как ранее — через представителей местной родо-племенной знати, реализовывало свою административную власть и осуществляло (уже по строго установленным нормам) сбор дани. Для проведения такой политики Ольга, как можно думать, располагала достаточными вооруженными силами и по крайней мере в Киеве чувствовала себя вполне уверенно, не опасаясь переворота во время своей длительной поездки в Византию.
Переходя повсеместно, прежде всего в Среднем Поднепровье, от управления через традиционные кланово-племенные структуры власти к собственно государственной территориально-административной системе, правительница Руси фактически отстраняла от реальной власти старинную родовую знать, сохраняя, вместе с тем, ее право занять ключевые позиции в создаваемой новой политико-административной структуре. Знатные фамилии «Русской земли», осознавая выгоды упрочения власти великокняжеского дома над зависимыми племенными княжениями и уже привыкшие к своим функциям в аппарате столичного управления, в целом должны были поддерживать избранный княгиней курс. Однако на местах, и особенно, очевидно, во все более усиливавшемся Новгороде, такая политика должна была встречать глухое недовольство. Нуждаясь в большом числе преданных и деятельных людей, Ольга должна была привлекать на службу и лиц незнатного происхождения, в том числе и иноземцев, в частности варягов, среди которых многие, побывавшие прежде в Византии, уже были крещенными.
Не приходится сомневаться, что в годы правления Ольги всей внутренней и внешней политикой страны в решающей степени руководили христиане — доверенные лица уже немолодой княгини, выдвинувшиеся на службе за десятилетия правления Игоря и его вдовы. При повседневных контактах с приезжающими в Киев и даже оседающими в нем иноземцами-христианами (торговцами-корсунянами, дружинниками-варягами) ориентация двора на христианство способствовала и укоренению православия в среде посадского люда.
Однако не только в отдельных владениях, но и в самой столице в эти же годы должно было зреть недовольство против политики Ольги и ее окружения. Оно приобретало идеологическое звучание в форме протеста против христианизации.
Прохристианской ориентацией киевской элиты в первую очередь должно было быть обеспокоено жречество. По сравнению с иерархически организованной христианской церковью слабость служителей языческих богов состояла не только в их полной самостоятельности в масштабах каждой из входивших в состав Киевской Руси «земель», но и в конкуренции даже почти не скрываемом антагонизме между адептами соперничающих культов, прежде всего военно-княжеского Перуна и торгово-посадского Велеса. Однако в борьбе с сосредоточенным пока еще в столице и ближайших к ней градах Среднего Поднепровья христианством различные «фракции» язычников могли начинать осознавать общность своих интересов. В первую очередь это касалось всех категорий жречества, родо-племенной знати на местах, возглавляемой местными княжескими династиями и все более усиливавшейся зажиточной прослойкой посадского люда северных городов, прежде всего Новгорода.
Новгородское купечество было заинтересовано в упрочении единства Руси, ведь оно обеспечивало расширение торговых связей в рамках Восточной Европы, гарантировало безопасность судоходства по течению Днепра и Волги, Нижнего Дона, Черного, Азовского и Каспийского морей, торговлю с соседними южными цивилизациями. Но все же новгородцев не могло не возмущать регулярное взимание даней с их земель служилыми людьми княгини. Кроме того, влияние христианского Причерноморья практически не распространялось за пределы Лесостепного Поднепровья, так что у непривыкших к нему северян православное богослужение и вероучение должны были вызывать естественное раздражение.
Недовольство христианством должны были испытывать и профессиональные военные, особенно дружинная молодежь, стремившаяся к романтике заморских походов, подвигам и богатой добыче, а не к скучной гарнизонной службе на окраинах необъятного государства. Мирная политика Ольги, ее стремление к дружбе с соседними, прежде всего христианскими, государствами, естественно, ассоциировалась с чуждой воинственному юношеству христианской пропагандой смирения, терпения, послушания и любви к ближнему. В первые годы после смерти Игоря, миролюбие княгини должно было встречать поддержку и понимание. Ведь тогда еще живы были воспоминания о неудачном, унесшем жизни тысяч людей походе на Босфор 941 г. Но уже следующее поколение знатной молодежи, чьим лидером и стал сын Ольги Святослав, снова мечтало о блестящих завоеваниях.
Под 964 г. летопись отмечает: «Князю Святославу возросшу и возмужавшу, нача вои совокупляти многи и храбры». Практически не вмешиваясь в сферу гражданского управления, которая еще пять лет остается в руках Ольги (а следовательно, и созданного ею прохристианского административного аппарата), князь всю свою недолгую жизнь проводит в походах, почти не показываясь в Киеве. Судя по всему, к этому городу он питал не меньшую антипатию, чем Петр I к Москве или Людовик XIV к Парижу.
Уже в год своего вокняжения Святослав подчинил вятичей, а в 965 г. совершил победоносный поход по Волге и Северному Кавказу на волжских булгар, хазар, ясов-алан, касогов-черкесов. Была полностью разгромлена Хазария, о чем красноречиво повествует современник этих событий, арабский географ Ибн-Хаукаль, сообщающий о взятии русами Саркела, Итиля и Семендера. Разрушив хазарскую столицу, князь по долинам Терека и Кубани вышел к Таманскому полуострову и Восточному Крыму — летописной Тьмутаракани, где значительно укрепил и расширил владения Руси. Под его прочной властью оказались Керченский пролив и низовья Кубани, Нижний Дон с некогда построенным Петроной Саркелом, переименованным теперь в Белую Вежу. В 966 г. Святослав был занят усмирением восставших вятичей, вслед за чем Византия втягивает его в свою войну с Болгарией.
В результате стремительного наступления уже в 968 г. князь, покорив ряд городов, занимает всю страну до Балканского хребта. Он лелеет планы создания объединенного Русско-Болгарского государства, укрепляется в мысли создать новую столицу — Переяславец на Дунае, где, по его словам «вся благая сходятся: от грек злато, паволоки, вина и овощеве разноличные, из чехъ же, из угоръ сребро и комони, из Руси же скора и воск, медъ и челядь». Обеспокоенная столь опасным соседством, Византия натравливает на Русь печенегов. Последние опустошили в 969 г. Среднее Поднепровье и осадили Киев. Однако вернувшемуся князю удается разгромить их у стен столицы. Выслушав упреки престарелой Ольги и бояр по поводу того, что он, воюя в чужих странах, пренебрегает интересами своей собственной земли, Святослав вновь отправился во главе шестидесятитысячного войска на Балканы — на этот раз уже против Византии.
Языческое мировоззрение Святослава определялось, естественно, не только его воинственным характером, но и средой, в которой он вырастал. С юных лет он, как о том можно судить по свидетельству Константина Багрянородного, был наместником в языческом, оппозиционном великокняжескому двору Новгороде. Логично предположить, что и многие из его сподвижников и соратников последующих лет были новгородскими друзьями молодого князя, выходцами из северных языческих родов. Они-то, очевидно, в начале 60-х годов и составили круг доверенных лиц Святослава в Киеве. Ведь он не имел прочных связей в прохристианской среде Ольгиного административного аппарата.
Древнерусские летописи донесли до нас упоминания о настоятельном стремлении Ольги обратить сына в христианство: она «живяше с сыном своим и учаша его и народ креститься. Но он о крещении не внимаше, ниже слыхати хотя, но всегда ей говорие: «Как я един крещуся, а протчие не хотят». Ольга часто глаголяше: «Аз, сыну мой, бога познах, радуюся, и аще ты познаешь, радоваться будешь велико». Он же, не веруя ей, тако глаголя: «Како аз могут един иною закон прияти, а вельможи и народ смеяться начнут». Она же рече ему: «Ежели ты такмо крестишися, то все будут тоже творити». Он же не слушая матере, поступал по обычаям поганьским»… «Ольга, яко мать любя Святослава», «моляшеся за сына своего», стремилась «отвратити» его от «обычаев язычеських», убеждая в истинах христианских, но когда князь возмужал, то «все оное насеянное подави терни в нем, окамене бо сердце его».
Поход русских дружин во главе со Святославом на Балканы. Миниатюра Радзивилловском летописи
Вместе с тем в годы своего совместного правления с матерью Святослав, понуждаемый обстоятельствами или же просто из безразличия, проявлял достаточную веротерпимость. По словам летописца, «ежели кто (из его дружинников) крестился, не возбраняху, обаче ручахуся им, укоряя неистово веру христианскую». Естественно, при таком отношении князя к новой религии немногие из поступавших к нему на службу юношей были склонны к крещению. Но все же, как вытекает из приведенного отрывка, такие находились. В целом же можно считать, что в 60-е годы X в. в Киеве четко оформляются две идейно-политические группировки: прохристианская, доминирующая в аппарате административного управления, пользующаяся, очевидно, поддержкой значительной массы киевского посадского люда, и антихристианская, языческая, связанная с военными кругами и, судя по событиям последующих лет, с новгородской боярско-купеческой верхушкой. Во главе этих «партий» стояли соответственно Ольга и Святослав.
До тех пор пока на Руси сохранялось «двоевластие» матери и сына (964—969), обе партии, имея приблизительно равные силы, были удовлетворены существовавшим между ними разделением сфер влияния. Святослав со своей дружиной вел войны на востоке, побеждая нехристианские народы и расчищая для новгородских купцов волжскую магистраль, а для торговых людей Киева утверждая власть Руси в Восточном Крыму, Прикубанье и на Нижнем Дону. Ольга же во главе своих вельмож непосредственно осуществляла управление страной, пропагандировала христианство и воспитывала в духе этого вероучения наследника престола — внука Ярополка. Однако конфликт уже назревал. Постоянные войны истощали ресурсы государства, а план перенесения столицы на Дунай, безусловно вызывавший открытое негодование среди киевской знати, мотивировался, вероятно, не только (или даже не столько) стратегическими соображениями, сколько стремлением Святослава и его сподвижников к ведению самостоятельного политического курса.
Нашествие печенегов на Русь в 969 г., едва не закончившееся взятием Киева, не могло не усилить оппозицию столичной знати и посадских сил экспансионистским устремлениям «военной партии». Упрекая вернувшегося из Болгарии сына, княгиня, пережившая угрозу пленения или гибели себя и внуков, могла в категорической форме потребовать прекращения разорительных для страны войн. Представляя себе даже по личным впечатлениям могущество Византии, Ольга при поддержке окружения должна была решительно воспротивиться задуманной Святославом тотальной войне с империей на Балканах, осознавая, сколь невелики были шансы русских дружин одержать конечную победу. Готовившийся поход сводил на нет все многолетние усилия княгини по сближению Руси с христианским миром. Как она и должна была предвидеть, он мог привести лишь к катастрофе.
Однако у Святослава были другие соображения. Полагаясь на союз с венграми и рассчитывая, очевидно, на поддержку антивизантийских сил в самой Болгарии, он в июле — августе 969 г. вновь появился на Дунае, не скрывая своего намерения наступать на юг. Император Никифор II Фока постарался отколоть от великого князя болгарскую знать. В какой-то степени ему это и удалось: царь Борис перешел на сторону империи. Однако в самом Константинополе события приобрели для императора роковой оборот. Смещенный Никифором се всех постов за связь с его женой Феофано блестящий полководец Иоанн Цимисхий 11 декабря 969 г. совершил государственный переворот и убил императора. Вслед за этим, в угоду патриарху, он отправил в ссылку Феофано и женился на дочери покойного Константина Багрянородного Феодоре. Подавив восстание племянника Никифора — Варда Фоки, он должен был двинуть войска в Сирию, где арабы осадили Антиохию. Весной 970 г. мусульмане были разгромлены. В это время Святослав перевалил через Балканский хребет и, опустошив Фракию, вышел к Адрианополю, охранявшему подступы к византийской столице, где и был остановлен императорскими войсками. Здесь, очевидно, было заключено какое-то соглашение, после чего войско великого князя отошло на север и расквартировалось в придунайских городах.
Но это было только начало войны. Весной 971 г. неожиданно для Святослава Иоанн Цимисхий во главе вернувшихся из Сирии основных сил вторгся в занятую русами Болгарию и 14 апреля взял ее столицу Преслав. Одновременно вооруженный «греческим огнем» флот империи был направлен в устье Дуная. Святослав с остатками войска оказался с суши и с реки окруженным в Доростоле превосходящими силами противника. Началась трехмесячная осада. Она сопровождалась вылазками, голодом, репрессиями против провизантийски настроенной городской знати и кровавыми жертвоприношениями языческим богам, прежде всего Перуну. В конце июля начались переговоры, закончившиеся мирным договором. Святослав должен был покинуть Болгарию и никогда впредь не посягать ни на эту страну, ни на византийские колонии в Крыму. Византия же обязалась снабдить всем необходимым для возвращения домой каждого из 22 тысяч воинов Святослава и «как к друзьям» относиться к русам, прибывающим в Константинополь по торговым делам. Основная часть войска во главе с выдвинувшимся еще при Игоре воеводой Свенельдом пошла сухим путем прямо на Киев, Святослав же с небольшой дружиной на кораблях решил достичь Киева по Днепру, но в 972 г. был убит печенегами на Порогах. Из отправившихся на войну дружинников две трети не вернулись домой.
Именно на последние три года жизни Святослава после смерти Ольги, связанных с военными действиями против православной империи, и приходятся антихристианские мероприятия великого князя, о которых красноречиво повествует приводимая В.Н. Татищевым «Летопись Иоакима». «Тогда [т. е. во время его неудач в борьбе с Цимисхием] диавол возмяте сердца вельмож нечестивых, начата клеветати на Христианы, сусчия в воинстве, якобы сие падение вой приключилось по прогневании лжебогов их христианами. Он же [Святослав] толико разсвирепе, яко и единого брата своего Глеба не посчаде, но разными муками томя убиваше. Они же с радостью на мучение идяху, а веры христовы отречься и идолам поклониться не хотяху, с веселием венец мучения примаху. Он же, видя их непокорение, наипаче на презвитеры яряся, якобы ти чарованием неким людям отврасчают и в вере их утверждают, посла в Киев, поведе храмы христиан изгубити». Однако, насколько можно судить по дальнейшему изложению, приказ этот не был выполнен: восклицая «бог весть, како праведныя спасти, а злыя погубите», Иоаким сразу переходит к описанию возвращения русского войска с Дуная и излагает подробности гибели Святослава.
Из приведенного отрывка вытекает: 1) в войске Святослава было достаточно много христиан-русов, которых языческое большинство в окружении князя хотело представить главными виновниками поражения; 2) усматривая в христианах врагов и тайных пособников Византии, Святослав в 971—972 гг. прибег к террору против них и явно намеревался по возвращении домой принять широкие антихристианские санкции; 3) его гибель на Порогах сорвала планируемое гонение на киевских христиан, сохранивших, таким образом, свою жизнь и имущество, но заметно ослабивших позиции после смерти Ольги.
Уходя в последний поход на Балканы, Святослав оставил в Киеве наследника престола Ярополка. Второму сыну — Олегу — он вверил в управление Древлянскую землю. Третьего же, Владимира, рожденного от ключницы ольгиного дворца Малуши, передал на попечение дядьки по матери Добрыне и отправил в Новгород. Первые годы после смерти отца братья правили вполне мирно. Однако в 977 г. в стычке с воинами Ярополка и явно вопреки намерениям последнего погиб Олег Древлянский. Узнав об этом, великий князь «печален бысть, яко случися убивство брата его Олега не по хотении его», и, чтобы предотвратить возможный конфликт с Владимиром, «посла к нему увесчевати». Однако тот, опасаясь за свою жизнь, убежал в Швецию, откуда через два года возвратился с наемным варяжским войском и при явной поддержке горожан утвердился в Новгороде. Братья открыто готовились к войне.
Политическое положение Ярополка во все годы его княжения было чрезвычайно сложным. Будучи воспитанником Ольги и мужем красавицы-гречанки, уведенной из монастыря и отданной ему отцом, он открыто симпатизировал христианам. Вместе с тем в годы назревавшего конфликта между преимущественно языческой дружиной Святослав и прохристиански настроенной администрацией Ольги Ярополк вынужден был считаться с крутым нравом отца, особенно после смерти бабки. Перед лицом подавляющего большинства языческого населения Руси он должен был оказывать уважение кумирам предков. Двойственность положения Ярополка усугубилась после возвращения с Дуная воинов Святослава, настроенных резко антихристиански.
Оказавшись, таким образом, между двумя противостоящими, но потерявшими своих лидеров (Ольгу и Святослава) религиозно-политическими партиями, Ярополк, христианин в душе, должен был соблюдать языческие обычаи, что, естественно, не устраивало ни христиан, ни язычников. По нраву «муж кроткий и милостивый ко всем, любище Христианы», он «сам не крестися народа ради, но никому не претяше». Все это, бесспорно, способствовало распространению христианства. Однако можно полагать, что христианская партия как при дворе, так и среди посадских кругов столицы могла надеяться на более решительные меры, на которые великий князь не мог отважиться. В то же время занимавшие ключевые посты в армии сподвижники Святослава не могли смириться с покровительством Ярополка христианам, с которыми они сражались столько лет. Сложным было и внешнеполитическое положение государства: в качестве оплота христианства в Киеве традиционно привыкли рассматривать Византию, однако отношения с ней были крайне напряженными. Поэтому открытый курс на христианизацию мог быть оценен многими, особенно в войсках, чуть ли не как государственная измена. Может быть, с этим в известной степени и было связано усиление установленных еще при Ольге связей Руси с католическим миром. В 979 г. в Киев прибыли послы от римского папы, но реальных последствий эти дипломатические шаги не имели в связи с победой Владимира в борьбе за власть.
Успехи Владимира в решающей степени определялись его опорой на все антихристианские силы Руси как в северных областях государства, так и в самой столице. В отличие от Ярополка, у Владимира не было оснований симпатизировать христианам. Еще в первые годы жизни будущего «крестителя Руси» Ольга сослала в Любеч его мать Малушу. Похоже, что при ее дворе незаконнорожденный княжич должен был ощутить себя изгоем. Однако своим воинственным и буйным нравом он более, чем братья, походил на отца. Владимир наравне с другими братьями получил в управление удел, причем второй по величине и значению центр государства — Новгород. Он был посажен там в 970 г. по просьбе самих горожан, но из-за молодого возраста — под опекой своего дяди по матери воеводы Добрыни, пользовавшегося полным доверием Святослава. Из этого можно представить, как воспитывался Владимир дядькой-язычником, соратником великого князя и братом его возлюбленной. Новгородцы, сами настроенные антихристиански, зная о языческой ориентации княжича и его опекуна, и попросили именно их себе в правители. Естественно, что, вырастая в приверженном Перуну Новгороде Владимир сформировался если и не как убежденный язычник, то по крайней мере как сознательный антихристианин. Он мог уверенно опираться на языческий Север, располагал варяжскими наемниками и с полным основанием рассчитывал на поддержку языческих сил в самом Киеве.
Ход войны 980 г. во многих ключевых моментах аналогичен событиям, происходившим за сто лет до того. Согласно материалам, приводимым В.Н. Татищевым, Ярополк, зная о возвращении брата с варяжскими отрядами, послал свои войска в землю кривичей. Владимир, взявший перед этим Полоцк и силой овладевший ранее отказавшей ему Рогнедой — дочерью местного князя, думал укрыться в Новгороде. Однако Добрыня, «ведый, яко Ярополк нелюбим есть у людей, зане христианам даде волю велику, удержа Владимира и посла в полки Ярополча с дары воеводам, водя их ко Владимиру». В последовавшей за этим битве на р. Друге, недалеко от Смоленска, владимировы войска «победиша полки Ярополчи не силою, не храбростью», но предательством «воевод Ярополчих».
Лишившись войска, частично перешедшего на сторону неприятеля, Ярополк растерялся: сперва он думал обороняться в Киеве, но находившийся в тайных сношениях с Добрыней и Владимиром его воевода Блуд, как о том пишет Нестор, коварно склонил великого князя покинуть столицу и укрыться в неприступной крепости Родне, у впадения Роси в Днепр. Затем, когда положение отряда осажденного там войсками Владимира стало невыносимым, Блуд убедил Ярополка сдаться на милость брата, гарантируя, что тот сохранит побежденному жизнь. Поверив обещаниям, лишенный престола Ольгин воспитанник через несколько дней был убит.
Летописцы единодушно признают, что Владимир и Добрыня достигли победы благодаря предательству военачальников Ярополковой дружины и неприязни языческого большинства собранных в поход ополченцев к прохристиански настроенному слабовольному и нерешительному Ярополку. Характер событий станет нам тем более понятным, если вспомним, что и Добрыня, и предавшие киевского правителя военачальники в массе своей были соратниками Святослава, погибшего всего восемью годами ранее утверждения Владимира на престоле. Своими прохристианскими наклонностями, миролюбивой политикой и «кротостью» нрава Ярополк должен был вызывать раздражение и даже презрение у воспитанных на языческом культе силы Святославовых ветеранов. Среди них же одним из наиболее выдающихся деятелей был Добрыня, который и заключил тайное соглашение со своими старыми боевыми товарищами из окружения Ярополка. Ему, очевидно, удалось убедить их в том, что Владимир является более подходящей кандидатурой на великокняжеский престол. Двойственность социальной позиции и религиозной ориентации погубила Ярополка. На его стороне не выступили христианские силы, тогда как языческие круги в самой столице, прежде всего военачальники, решительно встали на сторону Владимира.
Утверждение христианства на Руси
1. Религиозный вопрос в первые годы правления Владимира
Вокняжение Владимира в 980 г. означало кардинальную смену внутренней (в том числе религиозной) и внешней политики киевского правительства. Власть оказалась в руках проязычески настроенных, прошедших школу Святославовых походов военных, стремившихся опереться на жречество, уже реально представлявшее «христианскую опасность», и на антихристиански настроенные посадские круги, особенно Новгорода. Купечество этого города, как надо полагать, и финансировало поход Владимира на Киев. Приход к власти военно-языческой партии встретил поддержку и основной массы представителей старинной, но игравшей уже со времени княжения Ольги все меньшую общественную роль родоплеменной знати.
Очевидно, в окружении Владимира еще до захвата Киева сознавали, что для противостояния христианству старое, стихийно развивавшееся и организационно неоформленное язычество необходимо реформировать созданием общегосударственного пантеона и даже какого-то подобия «языческой церкви». Вспомним, что оказавшись в сходной ситуации, император Юлиан пытался предпринять именно подобные шаги. Относительно немногочисленная группа христиан на Руси была сильна не только своими позициями в административном аппарате и влиянием на торгово-ремесленные круги связанных с Причерноморьем среднеднепровских городов, но также стройностью вероучения и сплоченностью адептов. Пришедшая к власти языческая партия мало что могла противопоставить христианству в идейном и организационном плане. Компенсировать эту ущербность язычества и были призваны религиозные преобразования князя Владимира, начавшиеся сразу же после его вступления в Киев — в 980 г.
По словам летописца, новый князь позаботился о сооружении нового святилища в Киеве в честь покровительствовавшего ему громовержца. Он воздвиг «на холме вне двора теремного кумир Перуна деревянный, глава ему серебрена, ус златы, да и других богов: Хорса, Дажьбу, Стриба, Семаргла и Мокошь». В то же время отправившийся в Новгород Добрыня воздвиг над Волховом новое изваяние Перуна. В Киеве такая демонстративно проязыческая политика вылилась в драматические для христиан события, отраженные в летописях и, возможно, фиксируемые даже археологически.
Как показали исследования Я.Е. Боровского и П.П. Толочко, при сооружении капища Владимира использовались строительные материалы какого-то собора середины X в., техника кладки которого близка кладке Десятинной церкви и дворца Ольги. Не исключено, что храм мог быть разрушен еще в 971 — 972 гг. по приказу возвращающегося в Киев Святослава. Однако более вероятной представляется возможность его уничтожения сразу же по утверждении Владимира в Киеве. Как отмечалось, языческий террор последнего года жизни Святослава практически не коснулся христиан в самом Киеве, а при сосредоточении верховной власти в руках Ярополка они пользовались всеми льготами. Утвердившаяся же в столице в 980 г. военно-языческая группировка, естественно, не могла потерпеть на территории великокняжеского дворца христианский храм. Символом нового курса правительства и стало разрушение этой церкви, строительные материалы которой демонстративно использовались под фундамент капища традиционных кумиров.
Устройство нового языческого капища Владимиром. Миниатюра Радзивилловской летописи
Столь же характерной для первых лет правления Владимира акцией было и принесение юноши-христианина в жертву Перуну. Деморализованная и отошедшая пока на второй план христианская партия в Киеве сохраняла достаточные силы и влияние, чтобы едва утвердившийся на престоле при помощи новгородцев и варяжских наемников князь решился на открытые гонения. Однако киевские христиане были явными врагами нового режима, так что и Владимиру, и пытавшемуся возродить свое былое влияние жречеству надо было держать оппозицию в страхе, не провоцируя ее на открытое выступление. Этим, вероятно, и можно объяснить тот факт, что жертвой был избран христианин, но не русин, не член городской церковной общины, а сын недавно прибывшего из Византии христианина-варяга. Этнически он был чужд киевским христианам, а религиозно — тем скандинавам, которые находились на службе великого князя. Его убийство не могло вызвать крупных волнений и вместе с тем открыто демонстрировало решимость князя в борьбе за утверждение язычества.
К сожалению, нам практически ничего не известно ни об идейном содержании реформируемого и реставрируемого Владимиром и приближенными к нему жрецами язычества, ни о разделении функций между богами созданного им пантеона. Одним из основополагающих принципов государственной религиозной концепции, по всей видимости, был дуализм старых антагонистов Перуна и Велеса, строго разграничивавшихся топографически. Преодолеть их традиционное противостояние никто серьезно и не пытался. Однако сохранение как минимум «натянутых отношений» между патронами княжеской дружины и посадских «деловых кругов» изначально лишало обновляемое язычество и социальной, и концептуальной цельности.
Едва ли можно признать удачным с социально-политической точки зрения и выбор богов, возведенных в ранг ближайших сподвижников Перуна. Из пользовавшихся популярностью в широких народных массах можно указать только на сохранившегося со сколотских времен Дажьбога-Солнце да покровительницу женских занятий и урожая Мокошь. Имена Хорса, Стрибога и Семаргла практически не встречаются в антиязыческих увещеваниях церковных проповедников последующих веков, из чего можно заключить, что основной массе населения Киевской Руси они были чужды. В «Слове о полку Игореве» в образно-метафорических выражениях Хорс и Стрибог (точнее «ветры, Стрибожьи внуки») упомянуты по одному разу. Однако это говорит лишь о том, что память об этих двух мифологических персонажах (но, естественно, не вера в них) еще два столетия спустя сохранялась в среде образованной прослойки киевской дружинной знати.
Фрагмент капища X в. в Киеве. Раскопки 1975 г.
Вместе с тем широко почитавшийся крестьянскими массами земледельческий бог Род, а также близкий всем, и особенно ремесленникам — кузнецам и гончарам, Огонь-Сварожич и сам Сварог даже не упомянуты летописцем в связи с религиозными преобразованиями начала 80-х годов. Можно не сомневаться, что пантеон Владимира был составлен главным образом из тех богов, которые почитались дружинными слоями Киевской Руси, но были чужды посадскому люду и тем более крестьянству. Из этого видно, на какие социальные силы опирался Владимир в первые годы своего правления. Но при этом заметна и недальновидность окружавших его религиозных идеологов, очевидно, военачальников, привыкших решать социальные и политические проблемы силой оружия.
Внешне Владимиру во всем сопутствовал успех. В 981 г. он добился полной победы над польским князем Мешком на Висле и «дань погодну на ляхов возложи», а также возвратил занятые ими во время его борьбы с Ярополком пять червеньских городов по Западному Бугу. За этим следовали усмирение вятичей и радимичей, победоносный поход 983 г. в Прибалтику на ятвягов. Увеличилось и количество жен великого князя: кроме насильно взятых им язычницы Рогнеды и православной гречанки вдовы Ярополка, в ближайшие несколько лет у него появились две «чехини» и болгарка, — все трое, по всей видимости, христианки. Эти приводимые Нестором данные в целом соответствуют и сообщениям летописи Иоакима, где также идет речь о пяти Владимировых женах до его брака с византийской принцессой Анной, причем и среди них христианки составляли большинство.
Вероятно, и жены-христианки могли оказывать какое-то влияние на мировоззрение князя, хотя не они определяли религиозную политику киевского двора. Реставрированное язычество не оправдывало надежд относительно идейной консолидации социально разнородного и этнически пестрого населения Руси. Проязычески настроенные воеводы и дружина, заручившись финансовой поддержкой новгородского купечества и используя варяжских наемников, обеспечили захват власти. Однако они не могли быть использованы для создания нового аппарата управления. Новгородцы сразу после победы вернулись домой. Большинство варягов, возмущавших киевлян буйными выходками, отбыло на службу в Византию или было рассредоточено по пограничным крепостям. Возвысившиеся же при Святославе военачальники были явно неспособны к административной работе и не имели ни малейшего желания посвящать ей свою дальнейшую жизнь. Кроме того, они нужны были и в армии. Кто же должен был составить массу необходимых для обширного государства грамотных и исполнительных администраторов высшего и среднего звена управления? Оказалось, что в распоряжении Владимира не было никого, кроме христианских семейств Киева и близлежащих городов Поднепровья и Подесенья. Ведь это они фактически осуществляли административную власть уже около трех десятилетий, во времена правления Ольги, непрекращавшихся походов Святослава и унаследовавшего весь налаженный аппарат управления от своей бабки Ярополка.
Смерть варяга-христианина и его сына
За столетие, прошедшее со времени гибели Аскольда, родо-племенная организация власти была заменена территориально-административной. Третье поколение потомков выдвинувшихся на службе у Олега и Игоря дружинников, породнившись и смешавшись с древними аристократическими кланами полян-русов, составляло тот реальный управленческий слой, без которого Владимир не мог руководить страной. Однако и этот слой, не имея опоры в войсках и не видя реальной кандидатуры для замены Владимира на престоле, вынужден был идти на компромисс и сотрудничать с новым правителем Руси. Оказавшись во главе созданного Ольгой аппарата управления, непосредственно властвуя над населением Киева и соседних городов, уже около двухсот лет связанных с христианским Причерноморьем, стремясь к утверждению и на международной арене, Владимир вынужден был принять христианство.
О крещении Руси в эпоху Владимира в иностранных источниках практически ничего не сообщается. Для византийских и западноевропейских авторов X в. Русь, как пишет М.Ю. Брайчевский, уже более столетия выступала в роли государства христианского, хотя большинство ее правителей оставались язычниками. Для современников крещение Владимира вовсе не представлялось столь грандиозным событием, каким было описано монахами-летописцами спустя три — пять поколений. На протяжении X—XI вв. была создана легенда о «крестителе Руси», дожившая без существенных изменений до наших дней. Однако в самих древнерусских источниках того времени содержится как минимум две достаточно отличные версии об обстоятельствах крещения великого князя.
Официальная версия Русской православной церкви восходит к тексту «Повести временных лет» и сходного с ним сказания о походе на Корсунь и крещении великого князя, принадлежащем, как полагают некоторые ученые, перу корсунянина Анастаса, — предавшего Херсон Владимиру. В общем виде она выглядит так.
В 985 г., усмирив радимичей, Владимир совершил поход на Дунай и одержал победу над болгарами и сербами. Судя по тому, каких блестящих успехов в войне с Византией добились болгары уже через год, разгромив 17 августа 986 г. отборные императорские войска, можно полагать, что поход Владимира не был чрезвычайно кровопролитным. Вероятно, после нескольких стычек с болгарскими отрядами был заключен устраивавший обе стороны мир.
В следующем, 986 г. в Киев якобы прибыло посольство от волжских булгар, принявших ислам еще в начале X в. и стремившихся распространить мусульманство и на Руси. На вопрос князя «в чем состоит ваша вера?», они сказали, что проповедуют учение Магомета о едином боге, заповеди которого требуют обрезания, а также неупотребления в пищу свинины и отказа от винопития. Вместе с тем проповедники не налагали никаких ограничений на отношения с женщинами, а на том свете праведникам сулили утехи с прекраснейшими представительницами слабого пола. «Володимер слушал сие прилежно, зане был сам женолюбив, но не приятно ему было обрезание и неядение свинных мяс, а о непитии вина и слышать не хотел, глаголя, яко в сих странах вельми сие неудобно, зане руссам есть в веселие и здравие от питья вина, с разумом пиемого», а согласно другому источнику, сказал: «Руси есть веселие пити, не можем без того быти».
Склонять в свою веру Владимира приходили от имени папы и немцы. Они возвестили князю о том, что их «вера есть свет, клянемся Богу, который сотворил небо и землю, звезды, месяц и всякое дыхание, а ваши боги суть дерево». Однако Владимир, не вдаваясь в полемику, отправил и их со словами: «Идите назад, ибо отцы наши сего не принимали».
Более обстоятельный разговор состоялся с хазарскими иудеями. Они сообщили князю, что «христиане веруют в того, которого мы распяли, а мы веруем в единого Бога», изложив далее, что последний заповедал обрезаться, не есть свинину и зайчатину, хранить субботу. Выяснив, что у иудеев нет своей земли, поскольку, по их же собственным словам, «разгневался Бог на отцов наших и расточил нас по разным землям за наши грехи, и предана была земля наша христианам». Владимир резонно возразил: «Так как же других учите, когда сами отвержены богом и расточены? Если бы Бог любил вас и веру вашу, то вы не были бы расточены по разным землям: или вы хотите, чтобы с нами случилось то же?». На это, естественно, было трудно что-либо возразить.
Относительного успеха добился только четвертый миссионер — православный грек-философ. Он подверг саркастичной критике мусульманство, неодобрительно высказался по. поводу обрядов «латинян», отметив, вместе с тем, сходство их и своей веры. Он же объяснил князю, что иудеи изгнаны богом со своей земли именно потому, что распяли Иисуса Христа, которому поклоняются христиане. «Но для чего же Бог сошел на землю и принял такую страсть?» — спросил Владимир. И тогда проповедник кратко изложил основные моменты священной истории по Ветхому и Новому заветам, упомянул о грехопадении людей, искупительной миссии и воскресении Иисуса и, угрожая грядущим страшным судом, развернул перед взволнованным князем полотно с его изображением, где справа были нарисованы блаженные праведники, а слева — истязаемые грешники. Владимир не мог не признать, что хорошо первым и плохо вторым, однако на последовавшее тут же предложение креститься, ответил: «Подожду еще мало».
Согласно летописи уже в 987 г., вскоре после этих переговоров с миссионерами, Владимир созвал старцев и бояр и доложил им о том, что приходили проповедники разных вероисповеданий и хвалили свои законы, но больше всех ему понравилась вера греков. На это вельможи якобы ответили, что свое никто не хулит и предложили отправить посольство, дабы доверенные люди князя могли на месте убедиться, какой народ достойнее богу поклоняется. Ни булгарское, ни немецкое богослужение не понравилось русским послам. Но, якобы по их словам, когда «пришли мы к грекам, и ввели они нас туда, где служат Богу своему», то «не знали мы — на небе мы были или на земле, ибо на земле нельзя видеть такого зрелища и такой красоты: не умеем вам рассказать, только то знаем, что там Бог пребывает с людьми и что служба превосходит службу всех других стран; мы не можем забыть такой красоты». Приняты были послы в Царьграде и императорами — правившими в те годы братьями Василием и Константином, будущими шуринами русского князя. Они отпустили послов обратно «с дары великими и честью».
Выслушав все это, бояре и старцы, а точнее, возглавлявшие аппарат административного управления Древнерусского государства представители знатнейших столичных семейств, решительно выступили за принятие христианства. «Княже, — сказали они — если бы сей закон грецкий был порочен, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, которая была мудрейшею из всех людей». Далее оттягивать и отступать Владимиру было некуда, и на его вопрос «так где же креститься?» сановники ответили: «Где тебе любо». И далее, вопреки всякой логике (ведь с Византией наконец-то установлены дружественные отношения и двор единодушно принимает решение о крещении по греческому обряду), согласно летописному повествованию, весной 988 г. Владимир отправился в поход на Корсунь.
Несмотря на всю привлекательность сюжета о «выборе веры», приходится согласиться с Е.Е. Голубинским и М.Ю. Брайчевским, обстоятельно обосновавшими историческую недостоверность приведенного выше повествования. В самом факте появления в Киеве середины 80-х годов проповедников ислама из Волжской Булгарин, иудаизма от хазар, а также немцев-католиков и православного грека ничего принципиально невозможного нет. Но маловероятно, чтобы хазарские иудеи, чье государство незадолго до того было стерто с лица земли Святославом, могли рассчитывать на успех. Достоверно известно, что в X в. Киев поддерживал регулярные торговые связи как с булгарами (путь от Булгара до столицы Руси описан мусульманскими географами), так и с Германией — через Краков и Прагу. Несмотря на все политические осложнения, не прерывались и контакты славян Среднего Поднепровья с городами Причерноморья. Однако сопоставление рассмотренного нами летописного сказания с другими литературными памятниками XI в. как бесспорными, принадлежащими митрополиту Иллариону и монаху Иакову, так и вызывающими скептическое отношение у некоторых ученых (летопись Иоакима) показывает, что сама идея свободного выбора веры князем при якобы объективном и беспристрастном рассмотрении различных религиозных систем не выдерживает критики.
По словам проанализировавшего эти тексты Е.Е. Голубинского, одним из наиболее заслуживающих удивления поступков Владимира, принявшего православную веру, Илларион находит то, «что составляет совершенную и диаметральную противоположность с рассказом летописи»: князь решился на крещение, никем из проповедников не убеждаемый в ее истинности. Владимир своим умом осознал, что христианство лучше язычества. Русский митрополит во второй четверти XI в. писал в похвале Владимиру: «Не виде апостола, пришедша в землю твою… Не виде бес изгоняющи именем Христовым… сих всех не видя како убо верова? Дивное чудо! Инии царе и властителе, видяще сии вся бывающа от святых муж, не вероваша… Ты же, о блаженниче, без всех сих притече ко Христу, токмо от благого смысла и остроумия разумев, яко есть Бог един, творец невидимым и видимым, небесным и земным, и яко посла в мир спасения ради возлюбленного своего сына. И сии помыслив, вниде в святую купель».
Аналогично и монах Иаков, писавший около 1070 г., ничего не знает о послах, якобы приходивших к Владимиру с целью его обращения в христианство. Поступок князя он объясняет двумя факторами: во-первых, тем, что сам бог, «провидев доброту сердца его и призрев с небеси Милостию своею, просветил сердце его принять святое крещение», и, во-вторых, «слышав о бабке своей Ольге», что «приняла она святое крещение» и жила затем «всеми добрыми делы украсившися». Сходным образом и в «Сказании о Борисе и Глебе» пишется о том, что бог непосредственно возжег огонь веры в душе добродетельного князя, не упоминая при этом об иноземных проповедниках и рассмотрения Владимиром различных религий.
На основе анализа этих и других источников Е.Е. Голубинский пришел к хорошо обоснованному выводу: Владимир крестился еще в 987 г., за два года до похода на Корсунь, однако не афишировал своего поступка, опасаясь недовольства народа. Для обращения в христианство всей Руси необходимо было проделать организационно-административную работу, подготовить кадры священнослужителей, доставить церковную утварь и т. п. Для этого требовалось достаточно длительное время. Поэтому, приняв крещение, Владимир должен был начать подготовку к введению христианства в качестве официальной государственной религии. Аналогичным образом поступали и его современники — Мечеслав I (Мешко) в Польше, крестившийся незадолго до Владимира, и Стефан I в Венгрии, принявший христианство несколькими годами позже. Как и Владимир, они крестились сперва сами, а спустя несколько лет утверждали в своих государствах новую веру.
Таким образом, можно согласиться с тем, что ни сам Владимир, ни его бояре и старцы веры не выбирали, и сказание об этом событии в основе исторически недостоверно. Но, как полагает М.Ю. Брайчевский, оно отражает и обобщает сохранившиеся на Руси известия о попытках обратить киевских князей в свою веру иудеями-хазарами, мусульманами-булгарами, нем-дами-христианами и православными греками в более ранние времена. Возможно, оно сложилось под влиянием аналогичной хазарской легенды о «выборе веры».
Однако представляется вполне вероятным, что отдельные детали рассматриваемой повести имеют прямое отношение и к реалиям середины 80-х годов X в. Имеется в виду, во-первых, факт отправки русского посольства к императорам Василию II и Константину VIII. Они же передали богатые дары киевскому князю. Во-вторых, примечательно поведение старцев и бояр, среди которых ни один ни единым словом не обмолвился в защиту язычества, но все решительно высказались за принятие греческого христианства. В-третьих, следует принять во внимание переговоры великого князя с мусульманами о возможном принятии им ислама, которые велись незадолго до его крещения.
Рассмотрим эти аспекты с точки зрения социально-политической обстановки в Киеве и внешнеполитического положения Руси середины 80-х годов X в.
По прошествии нескольких лет после убийства брата положение Владимира в Киеве оставалось все еще недостаточно прочным. Высший административный аппарат столицы — «бояре» и «старцы» — выросшие под крылом Ольги и окрепшие во времена правления Ярополка, в массе своей, а многие уже во втором поколении, исповедуют христианство по греческому образцу. Среди них и Владимир, и его дружина оказались в политической и религиозной изоляции. Попытка реставрации и обновления язычества явно не имела успеха, тогда как христианство продолжало внедряться в сознание средних городских слоев. Князь, очевидно, и сам уже глубоко разочаровался в идолопоклонстве, однако, не желая оказаться в зависимости от Византии, не принимал и православия.
К этим годам относится и весьма разноречиво оцениваемый в научной литературе факт переговоров князя с правителем Хорезма. Как сообщает Ал-Марвази, в годы правления царя русов Владимира от них приходили послы в Хорезм с просьбой распространить ислам в их стране. Хорезмшах с радостью согласился и отправил на Русь мусульманских проповедников. По мнению С.П. Толстова, Владимир прежде всего искал на Востоке союзников против Византии. Осознавая необходимость принятия монотеистической религии, князь готов был согласиться на мусульманство, С точки зрения М.Ю. Брайчевского князь в 983—986 гг., не желая принимать христианство и уже полностью разочаровавшись в язычестве, надеялся создать в Киеве конкурирующую с православной мусульманскую общину. Согласно же П.П. Толочко, своими переговорами с хорезмшахом Владимир хотел продемонстрировать Византии, что она не единственная страна, от которой Русь может принять новую религию.
Едва ли когда-нибудь удасться доподлинно узнать, какими именно мотивами руководствовался киевский князь, направляя посольство в Среднюю Азию и насколько искренне он думал о принятии ислама. Однако, как убедительно подчеркивает П.П. Толочко, объективно, ходом самой истории «выбор веры» древнерусским обществом уже был сделан. Даже если бы Владимир всерьез намеревался отдать предпочтение мусульманству или римскому христианству, насадить их в восточнославянском обществе конца X в. было бы чрезвычайно трудно. Традиция православия на Руси насчитывала уже около двух столетий, оно имело определяющее влияние в самих придворных кругах. В то же время политическая ситуация в Византии резко изменилась, и киевский князь оказался вовлеченным в разгоревшуюся на ее территории борьбу.
2. Корсунский поход
17 августа 986 г. византийские войска потерпели катастрофическое поражение в сражении с болгарами. Весть о гибели императорской армии быстро докатилась до Багдада. Давний претендент на ромейский престол, Варда Склир, заручившись поддержкой арабов, вновь выступил против Василия и Константина. Перед лицом нарастающей опасности Василий II возвратил опальному полководцу Варде Фоке (племяннику императора Никифора II, убитого Иоанном Цимисхием во время наступления Святослава на Балканы) важнейший в создавшейся ситуации пост доместика схол Востока (фактически отдававший под его власть всю Малую Азию) с приказом выступить против Склира. Но в августе 987 г. Фока сам провозгласил себя императором и, захватив обманом Склира, объединил под своей властью оба мятежных войска. Фока подступил к столице, стремясь взять ее в тиски блокады. Тогда молодые императоры, не имея шансов на помощь с чьей-либо стороны, срочно отправили посольство к Владимиру. Не исключено, что в конце того же 987 г. Константинополь могло посетить и ответное русское посольство, отправленное обратно «с дары великими и честью». Все это означало резкий поворот в лучшую сторону в отношениях между киевским и константинопольским дворами.
Весной 988 г. в византийскую столицу из дальней Руси прибыл шеститысячный вооруженный отряд. При его помощи Василию удалось разгромить часть войск Фоки, стоявшую на другом берегу Босфора у Хрисополя. А уже 13 апреля 989 г. «со своими войсками и войском русов» Василий выиграл решающее сражение у Авидоса, во время которого, не будучи даже раненым, неожиданно для всех скончался Фока. Освобожденный из темницы престарелый Склир согласился, при условии сохранения за ним и его сторонниками титулов и владений, прекратить сопротивление. Так под властью Василия и его брата вновь оказалась вся империя от верховий Евфрата до Балканского хребта.
Быстрое сближение с Византией, продолжавшееся с осени 987 до весны 989 г., при настоятельной потребности в примирении великого князя с прохристиански настроенным боярством и влиятельными силами посадов среднеднепровских городов определило тот факт, что Владимир решился на свое собственное крещение. При условии крещения и в благодарность за оказанную военную помощь Василий и Константин обещали ему руку своей порфирородной сестры Анны, которой в марте 988 г. исполнялось двадцать пять лет. В ожидании обещанной царевны Владимир, как полагают некоторые исследователи, еще до похода на Корсунь, принял христианство.
Как показал Е.Е. Голубинский, вывод о крещении князя до похода в Крым прямо вытекает из сообщений монаха Иоакима, из «Сказания о Борисе и Глебе» и некоторых византийских источников. Однако это не согласуется со свидетельством летописи о крещении Владимира в Корсуни, в центральном храме города. Такое противоречие можно было бы объяснить, предположив, что до корсунского похода, еще в Киеве, князь мог принять христианство как частное лицо. Не исключено также, что, по мнению византийской царевны и ее братьев, крещение было бы действительным лишь в том случае, когда князь принимал его от представителей константинопольского патриархата. Последняя акция и была отражена в «Повести временных лет» и «Житии» князя.
Русь и Византия в конце X в.
От кого же принял Владимир «первое» крещение (если оно, конечно, имело место)? В принципе не было бы ничего невозможного в том, что князь ради этого мог бы примириться с киевским духовенством. Однако не менее вероятной может быть и приводимая В.Н. Татищевым версия епископа Иоакима. Последний связывал поход русских дружин на Дунай 985 г. с обращением русского князя в новую веру. Не упоминая о Корсунском походе, летопись Иоакима сообщает: «Иде Владимир на болгары и, победи их, мир учини и приат кресчение сам и сынове его и всю землю Русскую крести». При этом болгарский царь «присла иерей учены и книги довольни». И уже после этого «посла Владимир во Царьград ко царю и патриарху просити митрополита». В таком контексте крещение князя и присылка из Константинополя митрополита не являются жестко связанными с успешным походом князя на Херсон. Что же побудило Владимира двинуться с войском в Крым?
Как помним, соглашение с Василием II об оказании военной помощи при условии отправки принцессы Анны в Киев было заключено уже в конце 987 г. Поэтому можно предполагать, что к лету 988 г. Владимир надеялся получить обещанную невесту. Но год прошел, а Анна не приехала. Кроме того, на протяжении всего 988 г. не произошло существенного перелома в борьбе между константинопольскими правителями и мятежным полководцем. Войска Фоки все еще хозяйничали на малоазийском берегу Босфора, а занявшие выжидательную позицию болгары в любой момент могли вмешаться в войну и решить ее в пользу той или другой стороны. Получалось, что великий князь оставался ни с чем: в случае победы Василия и Константина он не получал Анны (коль уже ее не отдают даже в такой критической ситуации), а при их поражении и воцарении на престоле Варда Фоки Владимир в его лице приобретал лишь нового врага. Обида должна была усугубляться еще и тем, что, как минимум, предлогом для крещения был предполагаемый брак с царевной. Получалось, что его дружинники (из которых едва ли половина имела шансы вернуться домой) погибали ни за что. В такой ситуации к осени 988 г. у великого князя киевского и должен был сложиться план похода на Херсонес.
Не исключено, что идею корсунского похода могли подать князю и сами корсуняне, каждую весну прибывавшие с товарами в Киев. Многие из них имели в столице Руси торговые «базы», постоянных деловых партнеров и клиентов. Некоторые же должны были выполнять роль «официальных поставщиков» великокняжеского двора продуктами южного побережья Крыма. При таких отношениях их экономические интересы были ориентированы на Русь в гораздо большей степени, чем на Византию. Из этого естественно вытекает, что определенные торгово-промысловые круги Херсона были заинтересованы в отложении от империи и признании над собою верховной власти Киевской державы.
Ориентация на прочный альянс с Русью была обусловлена реальными экономическими, политическими и даже культурными выгодами, которые сулило вхождение города в состав молодого восточно-славянского государства.
По мере расширения торговли со среднеднепровскими городами хозяйственная деятельность грекоязычного населения крымского побережья все больше должна была ориентироваться на производство товаров, пользовавшихся особым спросом на Руси. В первую очередь это относилось к винодельческому и рыбозасолочному производству. Продукция их почти не имела сбыта в византийских городах, где виноградарство и морское рыболовство были развиты не хуже, чем в Херсоне. Но продукция эта могла быть реализована по предельно высоким ценам в славянских городах Поднепровья. Имея значительные прибыли от реализации вина, фруктов и соленой рыбы, корсуняне сравнительно дешево могли приобретать у крестьян Лесостепи столь необходимые для Херсонеса-Херсона на протяжении всей его истории продукты земледелия, в первую очередь зерно. Конечно, многие херсонцы X в. имели свои основные торговые интересы в малоазийских городах Византии, поставляя туда скупавшееся у печенегов и черных (приазовских) булгар продукты кочевого животноводства. Однако определенная часть торгово-промысловой олигархии Херсона могла быть заинтересована в принятии русского подданства.
Ориентация на Киев диктовалась не только экономическими, но и политическими соображениями. Стремившаяся к восстановлению былого могущества Византия после смутного времени эпохи иконоборчества с 30-х годов IX в. проводила широкую серию мероприятий по укреплению военно-административной власти государственного аппарата над отдаленными, ранее вполне автономными во внутренних делах городами. В Херсоне это было связано с деятельностью Петроны, установившего на побережье Крыма фемную систему и заметно ограничившего самостоятельность местного нобилитета. Усиление административного и налогового гнета вызывало протесты херсонцев. Это учитывал Константин Багрянородный, советовавший в наставлениях своему сыну Роману держать город в экономической зависимости, используя его постоянную нужду в зерне: «Если херсониты не будут ездить в Романию [т. е. Византию] и продавать шкуры и воск… то не будут существовать». Об антивизантийских настроениях жителей Херсона говорит и тот факт, что в начале XI в. они восстали против императорских властей и отложились от империи. Василию II в 1016 г. пришлось посылать туда флот.
В X в., как, впрочем, и ранее, Византия собственными силами могла удерживать лишь крепости и укрепленные города на южном берегу Таврики. Однако оградить села и сельскохозяйственные угодья от степных кочевников, а в случае ухудшения отношений между Константинопольским и Киевским дворами — и русских дружин, она была не в состоянии. Этим и определялись те статьи русско-византийских договоров, согласно которым дружины великих князей брали под свою защиту крымские владения империи от степных тюрок, в частности «черных булгар». Таким образом, мирная жизнь грекоязычного населения Крыма, прежде всего самих херсонцев, в решающей степени определялась не Византией, а Русью, военные силы которой в Северном Причерноморье явно доминировали. Херсон тяготился зависимостью от византийской администрации с ее поборами и мелочным контролем. Признание же верховной власти русского великого князя могло означать, во-первых, более прочные гарантии военной безопасности, а во-вторых, расширение прав городских органов самоуправления и, в-третьих, возможное облегчение налогового гнета.
Кроме того, ориентация определенных кругов херсонцев на сближение с киевским двором могла обусловливаться даже культурно-религиозными соображениями и интересами той образованной части грекоязычного населения Крыма, которая не находила возможности реализовать свои способности дома и тем более в Византии. Ведь при относительно высоком (по масштабам раннесредневековой Европы) уровне образования в империи и подвластных ей территориях общество постоянно имело достаточно значительную прослойку грамотных и даже книжно просвещенных лиц — обычно неустроенных, «безработных» выходцев из небогатых семей чиновников и священнослужителей. Лишенные возможности применить знания и способности на родине, многие из них охотно шли на службу ко дворам соседних правителей, особенно православных государств, достигая там высоких постов в светской и духовной иерархии. По мере того как со времен правления Ольги административный аппарат на Руси все более укреплялся и расширился, некоторое число корсунян, должно быть, попадало на службу к великокняжескому двору. Это облегчалось как регулярными экономическими связями Киева и Херсона, так и прохристианскими симпатиями Ольги и Ярополка, остро нуждавшихся в образованных единоверцах. Можно не сомневаться, что отраженная в летописях блестящая карьера Анастаса при дворе Владимира была далеко не первым случаем «продвижения по службе» в Киеве «корсунянина».
Таким образом, за летописной фразой (относящейся к 987 г.) о намерении князя идти на Корсунь скрыты сплетенные в единый узел экономические, политические и культурно-религиозные интересы и противоречия киевского двора, херсонского патрициата и византийской администрации. Они усугублялись как внешнеполитической обстановкой второй половины 80-х годов X в., так и личными, чисто человеческими желаниями, надеждами, обидами и опасениями самих конкретных «действующих лиц». Их имена известны нам из исторических документов: Владимир, Василий и Константин, их сестра Анна, претендент на византийский престол Варда Фока, тайный сообщник, а затем фаворит великого князя, корсунянин Анастас.
Как следует из вышеизложенного и вопреки мнениям едва ли не всех авторитетных дореволюционных исследователей, Корсунский поход был обусловлен вовсе не религиозными соображениями Владимира и его приближенных. Князь уже крестился, из Болгарии, судя по сообщениям В.Н. Татищева, начали приезжать священники и поступать богослужебная литература на славянском языке. Уже свыше ста лет, со времен Аскольда, в Киеве существовала и элементарная форма церковной организации, имевшая выход на Константинопольский патриархат. Объяснение причин «Крымской операции 989 г.» следует искать в области политических отношений Руси и Византии.
В течение лета 988 г. царевна Анна в Киев не была отправлена. Осенью, с прекращением навигационного сезона, ждать ее уже не приходилось. Исход борьбы между Василием II и Вардой Фокой также был все еще неясен, и вплоть до 13 апреля следующего года никто не мог бы поручиться за то, что правившему императору удается сохранить за собой престол Ромейской державы. Владимир же, как становилось все более ясным, при любом исходе этой войны оказывался в проигрыше, что не могло не вызвать его гнева на коварных византийцев.
Вместе с тем в сфере его досягаемости находился Херсон. Ясно, что Василий и Константин, оказавшись уже летом 987 г. в критической ситуации, должны были отовсюду стягивать к Константинополю сохранявшие им верность войска. Взиравшему же на столицу империи с азиатского берега Босфора Варде Фоке не было дела до «заморских» колоний Византии. Конечно, в городе должен был оставаться необходимый для его обороны гарнизон, однако активные боевые действия он вести явно не мог.
Поэтому, несмотря на мощные укрепления Херсона, исход операции был предрешен. Корсунь должен был либо открыть ворота, либо быть взят штурмом, либо сдаться ввиду длительной осады и блокады с моря. Приобретение же главного византийского города в Северном Причерноморье при любом исходе борьбы за константинопольский престол обеспечивало Владимиру возможность вести дальнейшие переговоры с правителями Романии с позиции силы. Не удовлетворив требований великого князя, царьградский двор должен был либо смириться на какое-то время (или даже навсегда) с потерей крымских колоний, либо готовиться к тяжелой продолжительной войне с Русью, ввязываться в которую истощенная гражданской борьбой империя не имела сил. Владея Корсунью, Владимир при любом исходе борьбы между братьями обещанной ему Анны и Вардой Фокой мог извлечь немалые выгоды. Этими соображениями, очевидно, и руководствовался киевский князь, подготавливая зимой 988—989 гг. свои полки и флотилию к походу на Корсунь.
Взятие Херсона войсками Владимира и отправка к нему в Крым принцессы Анны в сопровождении богатых даров, пышной свиты и многочисленного духовенства не подлежит сомнению. Об этом сообщают как древнерусские летописи, так и многие византийские авторы, в том числе и современники событий. Однако подробности их содержатся преимущественно в литературных произведениях, созданных на Руси. Согласно им в апреле 988 г. (но в действительности, как следует думать на основании византийских документов, годом позднее — в 989 г.) суда Владимира, благополучно миновав Пороги на половодьи, вышли в устье Днепра и через неделю причалили в бухте у юго-западных стен Херсона. Гарнизон города закрыл ворота и началась его длительная осада.
По древнерусскому преданию, Владимиру удалось овладеть городом благодаря тому, что один из его жителей — Анастас, послал великому князю стрелу с запиской, где советовалось разобрать водопровод, находившийся к востоку от русского лагеря, под землей, и тем самым, лишив осажденных воды, принудить их к капитуляции.
Эта весьма правдоподобная на первый взгляд версия не будет казаться бесспорной, если учесть, что Херсон питался не только водой, поступавшей по трубам с Балаклавских высот, но и имел собственные, выявленные в ходе археологических раскопок многочисленные колодцы, а также цистерны, где содержались дождевая и поступавшая с гор вода. В начале осады горожане не могли быть столь беспечными, чтобы не заполнить еще длительное время поступавшей к ним ключевой водой все имевшиеся в городе емкости. При экономном расходовании воды недостаток в ней не ощущался бы еще многие месяцы. Но даже если бы эти запасы иссякли, то необходимый минимум воды всегда мог быть получен из колодцев.
Поэтому версия о капитуляции города из-за нехватки воды едва ли может быть признана убедительной. В условиях осады херсонцы не могли не терпеть лишений, связанных с нехваткой продовольствия и топлива, не могли не сокрушаться, глядя на то, как гибли их сады и виноградники. Понимая, что ждать помощи неоткуда, а Владимир будет стоять у стен, пока не овладеет городом, все большее число людей должно было склоняться к мысли о капитуляции. При этом в Херсоне должны были активно действовать влиятельные сторонники великого князя, одним из которых и был Анастас, постаравшийся выставить себя перед Владимиром главным сообщником.
Как бы там ни было, но в середине лета город открыл перед князем свои ворота. После этого Василию и Константину был направлен ультиматум. В нем правитель Руси требовал присылки Анны, лишь на таком условии обязуясь возвратить им занятые византийские владения, в противном же случае угрожал походом на Константинополь: «Се град ваш славный я взял, а слыша, что вы сестру имеете деву, прошу, чтоб за меня отдали и тем мир вечный утвердили. Ежели сего не учините, то имею намерение идти и ко Царюграду, и, может, то же учиню, что и сему». Как продолжает далее летописец, «цари хотели мира» и боялись, что князь действительно двинется к их столице, но «страх имели сестру отдавать, ведая его неумеренное женолюбие и множество имеемых жен и детей». Поэтому можно понять Анну, умолявшую братьев не отдавать ее за Владимира, рисовавшегося ее воображению страшным северным варваром, язычником, братоубийцей и прелюбодеем.
Вообще жизнь этой девушки сложилась трагично. Родилась она в середине марта 963 г., за два дня до смерти своего отца Романа II. Овдовевшая красавица-императрица Феофано, дочь простого трактирщика, осталась с новорожденной дочерью, пятилетним Василием и трехлетним Константином на руках среди презиравшего ее константинопольского двора. В такой ситуации ей не приходилось считаться со своими чувствами. Через месяц после смерти мужа она вызвала в столицу питавшего к ней давнюю страсть немолодого военачальника Никифора Фоку (чьим племянником и был мятежный Варда Фока), принявшего императорскую корону и женившегося на Феофано летом того же года.
В годы правления Никифора Фоки (963—969) впервые в качестве политической акции международного значения был поставлен вопрос о замужестве Анны. В это время попытки немцев установить господство над Средней Италией и Римом столкнули их с Византией, еще удерживавшей южные области Апеннинского полуострова — Апулию и Калабрию. Константинопольский двор не признал за королем Германии Оттоном I, претендовавшим на равное с византийским базилевсом положение, титула «римского императора», после чего тот вынудил зависимых от Византии князей Сполето, Беневента и Салерно принести ему вассальную присягу. Никифор заявил протест, и Оттон предложил уладить спор с помощью династического брака — женитьбы своего сына Оттона (который был спешно коронован в качестве соправителя своего отца) и не имевшей еще и пяти лет отроду Анны. Считая германского принца кандидатурой, не достойной руки внучки Константина Багрянородного, Никифор отклонил брачное предложение. Немцы ответили на это вторжением в Южную Италию и осадой Бари (968). Война шла с переменным успехом, однако вскоре в Константинополе произошел очередной государственный переворот: при содействии Феофано, как уже отмечалось, Иоанн Цимисхий убил Никифора II и захватил власть, однако тут же, из политических соображений, отправил бывшую возлюбленную-императрицу в ссылку.
Семилетняя девочка, представительница царствующего дома в пятом поколении, вместе с братьями оказались отстраненной от придворной жизни. Для урегулирования итальянского конфликта Иоанн, вынужденный одновременно бороться с арабами, немцами и дружинами Святослава, отдал в жены Оттону-младшему свою племянницу, продемонстрировавшую в дальнейшем незаурядные политические способности. Двойственное положение Анны сохранялось до последовавшей в январе 976 г. смерти Иоанна. Престол удалось занять ее братьям, а мать получила возможность вернуться в столицу. С четырнадцати лет девочка воспитывалась по всей строгости правил, достойных порфирородной царевны. Однако непрекращающаяся борьба придворных клик, мятежи полководцев и неудачи во внешних войнах первых десяти лет правления молчаливого (очевидно, ввиду косноязычия), но энергичного и рассудительного Василия II не могли не оставить следов в ее психике. И вот девушке, выросшей в обстановке козней и интриг, не знавшей нормальных отношений в семье, в конце концов предстояло оказаться в роли жертвы. Ее ценой Византия надеялась обеспечить себе мир на севере и вновь заполучить Херсон.
Патриарх и братья, как о том сообщает летопись, увещевали Анну согласиться. Первый обещал ей загробное блаженство и честь великую за содействие распространения веры христовой. Василий и Константин мотивировали необходимость этой акции тем, что в противном случае в предстоящей войне погибнут тысячи ее сограждан, что она призвана оградить страну от разорения и прочих бедствий. Все это выглядит весьма правдоподобно, как, впрочем, и то, что условием брака Владимиру было объявлено его крещение. Как отмечалось, формальное причисление великого князя к «стаду христову» состоялось, очевидно, двумя годами ранее. Однако в Константинополе могли либо не знать об этом, либо не считать крещение действительным без санкции патриарха.
Крещение правителя Руси как «частного лица» при сохранении им пяти прежних жен и восьмисот (если верить летописцу) содержавшихся в Вышгороде, Белгороде и Берестове наложниц, а также языческих идолов перед его дворцом не могло устроить братьев порфирородной принцессы. Поэтому Анна как христианка и женщина, тем более царевна должна была в качестве условия потребовать изменения образа жизни князя, в частности — удаления его прежних жен. Не исключено, что она считала его крещение действительным лишь если оно было бы совершено греческими священниками у нее на глазах. Владимиру же это могло казаться вопросом не стоящим проволочек, и он дал согласие. Откладывать поездку Анна более не могла. Как повествует летопись, она в сопровождении вельмож и духовных лиц «с плачем великим отправилась через море».
Согласно «Повести временных лет» Владимира крестил в Херсоне местный епископ. Он же и обвенчал его с Анной. Добившись цели и «царям греческим за вено Корсунь возвратя», великий князь с супругой и ее многочисленной свитой, взяв «Анастасия корсунянина, и попы корсунския с мосчами святого Климента и обою учеников его, також сосуды церковныи и иконы на благословение себе», отправился в обратный путь. К осени 989 (988 по летописи) г. корабли прибыли в киевский порт на Почайне. Теперь следовало официально ввести новую веру как государственную религию.
3. Введение христианства на Руси
По возвращении в Киев Владимир, как сообщает летопись, повелел креститься языческой части знати и опрокинуть идолов: одних изрубить, а других сжечь. Перуна князь приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву узвозу (современному Андреевскому спуску) к стекавшему в Днепр ручью. Двенадцать мужей должны были колотить его «жезлами, не яко чуственного для оскобления, но на поругание зловерия, паче же для посрамятся нехотясчие креститися и познают, яко сии боги, на них же так твердо надеюсчися, отмилости просили, узрят, яко ни себе сами помосчи и от сокрушения избавиться не могут». Затем столь величественно почитавшегося ранее бога столкнули в Днепр и, отталкивая от берега, сопроводили аж до Порогов, где он был вынесен на песчаную отмель одного из островов. По другой версии, идол Перуна был прибит волнами к берегу ниже по течению Днепра — там, где в 1070 г. при загородной резиденции великого князя Всеволода Ярославича был основан Выдубецкий монастырь.
Далее Владимир развернул широкую христианскую пропаганду. Многие киевляне все же не хотели креститься. Одни, как пишет летописец, «размышляя, отлагали день за день; инии же закоснелые сердцем ни слышати учения хотели. Тогда Владимир послал по всему граду, глаголя: «Заутра всяк изидет на реку Почайну креститися; а ежели кто от некресченых заутра на рек не явится, богат или нищ, вельможа или раб, тот за противника повелению моему причтется». Слышавшие же сие, люди мнози с радостию шли, разсуждая междо собою, ежели бы сие не было добро, то б князь и бояра сего не приняли. Инии же нуждою последовали, окаменелыя же сердцем, яко аспиды, глуха затыкаюсче уши своя, уходили в пустыни и леса». У Почайной сошлося бесчисленное множество народа, мужей, жен и детей, люди входили в воду, «стояли иные до шеи, другие до персей, иные по колени», а священники, стоя на берегу, читали молитвы и осеняли их крестами.
В источниках нет упоминаний о сопротивлении языческих кругов Киева акту крещения. Очевидно, этого и не было из-за достаточно широкого распространения христианства в столице Руси уже на протяжении предшествующих десятилетий. Да и княжеская администрация в городе обладала достаточной силой принуждения. Кроме того, переориентация Владимира и его ближайших сподвижников во главе с Добрыней на христианство, произошедшая как минимум за два года до возвращения из Корсуня, давно ни для кого не была секретом. Предвидя грядущие перемены, большинство убежденных язычников, и прежде всего само жречество, должны были заблаговременно покинуть Киев. Очевидно, то же произошло и в близлежащих, уже в значительной мере христианизированных городах Среднего Поднепровья: Чернигове, Переяславе, Родне, Белгороде, Вышгороде, Любече и др. О крещении жителей этих городов в летописях ничего определенного не сообщается. Можно лишь предполагать, что там крещение проведено в тоже время, что и в столице, без существенных инцидентов. Объявленное Владимиром государственной религией христианство, вероятно, утвердилось в среднеднепровских городах уже к 990 г. Однако даже формально некрещеными оставались еще как минимум девять десятых территории Древнерусского государства.
Крестить оставшихся в язычестве жителей Киева и близлежащих городов можно было и не прибегая к силе, при помощи своих же русских христиан, болгарских проповедников и греческих священников, прибывших преимущественно из Корсуня. К восприятию новой религии в этом районе лучше, чем где-либо в пределах Древнерусского государства были подготовлены и крестьянские массы, общавшиеся с принимавшими христианство ремесленниками, торговцами, дружинниками, представителями постепенно феодализировавшейся общинной верхушки.
Иначе обстояло дело на Севере, в лесной зоне, где все еще сохранявшиеся местные княжеские династии, тесно связанная с жречеством родовая знать, влиятельные купеческие и промысловые круги важнейших торговых городов (Новгорода, Смоленска, Полоцка, Пскова, Ладоги) справедливо усматривали в принятии христианства акцию по ликвидации местного самоуправления и автономии. Однако и в Киеве, очевидно, хорошо понимали, что централизованному государству, над оформлением и укреплением которого теперь совместно трудились и бывшие лидеры языческой партии во главе с Владимиром и Добрыней, и прохристиански настроенная со времен Ольги столичная знать, должна соответствовать и единая религиозная идеология. За насаждение христианства на Севере с 991 г. великий князь и его дядя-наставник принимаются столь же решительно, как десятью годами ранее пытались бороться с этим вероучением на Юге.
Можно только догадываться, с каким возмущением должны были воспринимать новгородцы и прочие северяне поступавшие к ним из приднепровских городов известия о низвержении кумиров, насильственном крещении сторонников отеческой веры и разворачивавшемся массовом строительстве церквей. Им было тем более обидно, что инициаторами всех этих акций оказались Владимир, Добрыня и другие, которым они, северяне, обеспечили победу в борьбе с Ярополком. Бесспорно, наиболее активным элементом среди язычников Северной Руси должны были быть волхвы, как местные, так и бежавшие на Север из среднеднепровских городов в 989—991 гг.
Культу Перуна, всецело связанному с князьями и военной прослойкой, смертельный удар был нанесен самим отказом от него высшей государственной знати во главе с Владимиром. Однако почитание Велеса, традиционного антипода громовержца, вошло в плоть и кровь горожан Русского Севера, связанных с торговлей, промыслами, ремеслами и почти не затронутыми влиянием христианской идеологии. Служители Велеса, волхвы, не могли не развернуть активной антихристианской пропаганды, грозя отступникам местью родительских богов, духов предков и прочих сил, от которых зависят их жизнь и благополучие, Однако жречество в конкретной ситуации начала 90-х годов X в. не имело централизованной организации, было разрозненно по городам и деревням, лесам и топям русского Севера, а потому ни идейно, ни политически не могло противостоять православной церкви, опиравшейся на военно-административный аппарат.
Полупервобытные, стихийные, концептуально неоформленные верования столкнулись с теологически продуманной и за столетия приспособленной к духовным запросам различных слоев классового общества доктриной христианства. Аморфная масса волхвов, кудесников и заклинателей не могла устоять перед иерархически организованным, действующим по строгой программе механизмом православной церкви. Буйная, мятежная, но не имеющая политически опытных лидеров, как и общих для всех слоев целей и идеалов, масса горожан уступала централизованному, проводящему в жизнь четко поставленную задачу военно-административному аппарату Древнерусского государства. Ясно, что в такой ситуации исход борьбы за введение христианства в качестве официальной религии в крупнейших северных городах был предрешен.
По прибытии из Константинополя в Киев митрополита, других церковных иерархов и клира, скорее всего, еще летом 991 г. с целью крещения новгородцев Владимир послал на север Иоакима-корсунянина. По всей видимости, он владел славянским языком. Сопровождало его войско во главе с новгородским посадником Добрыней и тысяцким Путятой. «Сии шедши по земли с вельможи и вои Владимировы, учаху люд и крестяху всюду стами и тысячами, колико где прилучися, асче люди невернии вельми о том скорбяху и роптаху, но отрицатися ради не смяху». Судя по всему, эти слова из летописи Иоакима, приводимые В.Н. Татищевым, относятся к деятельности направленных к приильменским словенам сил по мере их продвижения вверх по Днепру и далее — вниз по Ловати. Их путь должен был проходить через Полоцк или Смоленск, однако в источниках о крещении этих городов ничего не сообщается. Очевидно, со сколько-нибудь бурными событиями введение христианства в земле кривичей связано не было. В Новгороде местные волхвы и посадское население настроены были более решительно.
Княжескому войску удалось войти в город, однако новгородцы взялись за оружие. В ходе вспыхнувших уличных боев восставшие разгромили усадьбу Добрыни, убили его жену и некоторых домочадцев, а «церковь Преображения господня разметаша и домы христиан грабляху». Однако, столкнувшись с решительным противодействием дружинников, восставшие оставили Торговую сторону и, разобрав мост, укрепились на другой половине города. Вскоре княжеским воеводам удалось добиться решительных успехов: Путята с отборным отрядом переправился через Волхов, захватил городского тысяцкого и его ближайших сподвижников. Тем временем Добрыня пошел на крайние меры: поджег кварталы наиболее активных участников сопротивления. Восстание было подавлено и овдовевший воспитатель великого князя срубил им же воздвигнутых десятью годами ранее идолов. Люди плакали, глядя на это, а посадник укорял их: «Что, безумнии, сожалеете о тех, которые себя оборонить не могут; кую пользу вы от них чаять можете?».
За низвержением кумиров последовало крещение: «Идоша мнози, а нехотясчих креститися воини влачаху и крестяху, мужи выше моста, а жены ниже моста». Если в Киеве достаточно было одних угроз, то здесь приходилось постоянно прибегать к военной силе. Как потом с сарказмом говорили новгородцы, «Путята крестил мечем, а Добрыня огнем».
С неменьшими трудностями вводилось христианство и в других северных землях. Так, источники сообщают, что первые два епископа, направленные в Ростов, — Федор и Илларион практически ничего не добились. Третий, очевидно, русский по происхождению, Леонтий, постриженник Печерского монастыря, оставил надежду переубедить взрослых и стал учить детей, но едва не был убит их возмущенными родителями. Только Исайе, уже в те годы, когда на северо-востоке Руси правил молодой Владимир Мономах, удалось добиться определенных успехов. Не менее болезненно прививалось христианство и в Муромской земле, проникая туда через Чернигов и северские города. В 1096 г. здесь уже был небольшой монастырь, но массы открыто придерживались язычества. Еще труднее обстояло дело с крещением вятичей, упорно отстаивавших свою самостоятельность на протяжении двух веков и вплоть до конца XI в. имевших собственную княжескую династию. Владимиру Мономаху пришлось совершить на них три похода, прежде чем власть местной родо-племенной аристократии была заменена подчинявшейся великому князю через черниговского намесника русской администрацией. Лишь с того времени, с первой четверти XII в., христианство начинает проникать в их земли. Однако известно, что и в середине указанного столетия вятичи убили проповедовавшего среди них печерского монаха Кукшу.
Важнейшим источником, на основании которого мы можем судить о процессе распространения христианства на Руси до нашествия орд Батыя, являются археологические материалы. В последние годы А.П. Моцей собраны и проанализированы археологические данные, свидетельствующие о том, что христианство вплоть до XII в. почти не проникало в быт и культуру основной массы населения Древнерусского государства за пределами Среднего Поднепровья.
В настоящее время на территории бывшей Южной Руси выявлены остатки 69 каменных церковных сооружений I—XIII вв. Это составляет 42% всех исследованных памятников монументального культового зодчества древнерусского времени. Почти половина этих храмов сосредоточена в Киеве. Причем в столице Руси и соседнем Переяславе каменных церквей X—XI вв. были почти столько же, сколько и возведенных в XII—XIII вв. Совершенно иная картина прослеживается в других землях (Новгородской, Черниговско-Северской, Галицко-Волынской, Полоцкой и т. д.), где в важнейших городских центрах выявлено, как правило, не более одного каменного собора XI в. В последующие же полтора столетия, вплоть до ордынского нашествия, число культовых сооружений резко возрастает. Это, по мнению А.П. Моди, красноречиво свидетельствует о том, что на протяжении XII в. позиции церкви заметно усиливаются также и в отдаленных от Среднего Поднепровья землях. Очевидно, этот качественный перелом, подготовленный церковно-просветительской деятельностью Ярослава Мудрого и его сподвижников, в частности митрополита Иллариона, не в последнюю очередь был обусловлен и предпринятыми Владимиром Мономахом и его сыном Мстиславом в первой трети XII в. энергичными мерами по консолидации Древнерусского государства.
Аналогичную картину можно проследить и при рассмотрении материалов погребальных комплексов древнерусского времени. Как и в Херсонесе периода его христианизации, в южнорусских землях X—XIII вв. широко наблюдается сочетание христианских и Дохристианских традиций. В X—XI вв. погребения с преобладанием христианских черт характерны только для Киевщины, окрестностей Чернигова и Переяслава, отдельных районов Волыни и Курского Посемья, где во времена Владимира и Ярослава были расквартированы значительные воинские контингенты, состоявшие преимущественно из выходцев со Среднего Поднепровья. Эти данные лишний раз подтверждают, что христианство прежде всего было воспринято жителями среднеднепровских городов и их ближайших окрестностей.
Крест-энколпион. Киев, Старокиевская гора
Служилые и посадские слои ядра Древнерусского государства — «Русской земли» в ее границах VI—VIII вв., — были наиболее восприимчивой к идеям христианства социальной средой восточнославянского общества. Отдельные представители ее начали приобщаться к новой вере уже с середины IX в. Процесс их христианизации в целом был завершен в период правления Владимира и Ярослава, о чем красноречиво свидетельствуют могильники у основных южнорусских городов. Однако даже ближайшие к поляно-русскому населению жители Древлянской земли и Деснянско-Сеймского междуречья, не говоря уже об обитателях северных областей Руси, в XII—XIII вв. все еще во многом придерживались дохристианских традиций погребального обряда. А в Новгородской земле языческий погребальный обряд сохранялся и в XIV в. Древних культовых традиций вплоть до ордынского нашествия придерживались и в земле вятичей.
Киев и ближайшие к нему города составляли не только политический центр христианизации, но и являлись на протяжении X—XI вв. средоточием основной массы жителей Руси, искренне воспринявших новое учение. Об этом свидетельствуют находки символов христианского культа того времени: нательные крестики, образки, иконки и т. п. Отсюда они проникали в крупные политические центры, столицы будущих самостоятельных княжеств второй половины XII в., в народные массы посадов и деревень северных земель. Именно в Киеве, при Печерском и прочих монастырях было налажено производство расходившихся уже со второй половины XI в. предметов христианского культа.
Таким образом, согласно археологическим данным и письменным древнерусским источникам во времена князя Владимира христианство в полной мере утвердилось в самом Киеве и ближайших к нему городах Среднего Поднепровья. Оно было насильственно введено в Новгороде и, по всей видимости, в нескольких других городах лесной зоны — в тех политико-административных центрах, куда великий князь в качестве наместников направлял своих многочисленных сыновей, большинство из которых погибло во вспыхнувших сразу после его смерти усобицах. В Киеве и ряде других городов (Новгороде, Чернигове, Переяславе, Белгороде, Вышгороде, Турове, Полоцке и др.) на государственные средства начали сооружаться церкви, среди которых убранством своим выделялась прославленная Десятинная церковь. Владимир, как сообщает «Повесть временных лет», «поручи ю Анастасу Корсунянину, и попы корсуньския постави служити в ней, вдав ту все, еже бе взял в Корсуни: иконы и съуды и кресты».
Десятинная церковь. Реконструкция Н.В. Холостенко
Активное церковное строительство в крупнейших городах Руси — Киеве, Новгороде, Полоцке — развернулось при сыне Владимира Ярославе Мудром. В 1037 г. в Киеве был сооружен Софийский собор богато украшенный мозаиками.
По-видимому, еще до вокняжения Ярослава под Киевом появляются первые монастыри, как и возникают столь характерные для средневекового христианства ереси. Под 1004 г. летописец констатирует: «митрополит Леонтий посади в темницу чернеца Андреяна Скопца. Той бо вельми изучен бысть писания, многи книги чита и впаде в ересь, укоряше церковь и все уставы, епископы и презвитеры, иконы и посты: но помале времени исправися». К сожалению, нам ничего больше не известно о жизни и взглядах этого первого на Руси еретика, выступившего с критикой официального православия всего через пятнадцать лет после его окончательного утверждения в Киеве.
Софийский собор в Киеве. Макет. Реконструкция Ю.С. Асеева, В.П. Волкова, Н.И. Кресального
Несмотря на все успехи еще и во времена прославившегося своей просветительской деятельностью и любовью к книжной учености Ярослава Мудрого, языческие массы составляли большинство населения Киевской Руси. Выдающийся мыслитель и литератор середины XI в. киевский митрополит Илларион в «Слове о законе и благодати» называет христианскую общину на Руси того времени «малым стадом». Фактически язычниками оставались и многие насильственно крещенные люди. Они лишь номинально считались христианами, тайком поклоняясь старым богам. О них говорится в «Повести временных лет»: «Словом называемся христианами, а на деле живем точно поганые».
О безразличии широких, особенно крестьянских, масс к новой религии, об их ярой приверженности народным обрядам красноречиво повествуют древнерусские проповедники. По их словам, люди в XI—XII вв. живут, «не слушая божественных словес, но аще плясци или гудци или ин хто игрець позоветь на игрище или на какое зборище идольское, то вси тамо текут радуяся… и весь день тот престоят позорьствующе тамо». Когда же зовут на службу церковную, «мы позевающе и чешемся и протягиваемся, дремлем и речем: «Дождь…» или «Студено…». Да все то спону творим! А на позорищах… то все приемлем радуяся, позоры дея на пагубу душам. А в церкви… и не хотят прити на поучение, леняться».
Мозаичная композиция «Евхаристия» Софийского собора в Киеве
На основании сохранившихся письменных источников можно даже предполагать, что волхвы, застигнутые поначалу врасплох и утратившие во времена правления Владимира и Ярослава почти все свои позиции в основных городах, во второй половине XI в. пытались организовать по всей Руси что-то вроде широкого общенародного антихристианского движения. Возможно, в то время у них уже сложилось подобие организации, их «теоретики» пытались разработать некое, способное идейно противостоять христианству языческое вероучение.
Как сообщает летописец, в 1071 г. в Киеве появился волхв и начал проповедовать народу, что на пятое лето Днепр потечет вспять, а земли будут «переступать» со своих мест на чужие, в частности греческая земля станет на место русской, а русская на место греческой. Он вещал открыто, и люди по-разному реагировали на его пророчества: «невегласи послушаху его, верни же смеяхуся, глаголюще: бес тобою играет на пагубу тебе». Однако вскоре языческий пророк «в едину ношь бысть без вести». Очевидно, он был либо схвачен и заточен, либо попросту убит городскими властями. Никаких особых последствий в городе его выступление не имело.
«Город Владимира». Фрагмент макета «Древний Киев». Автор Д.П. Мазюкевич
Гораздо драматичнее развернулись несколькими годами позже события в Новгороде. Между 1074 и 1078 гг. некий волхв открыто выступил против христианства и убеждал, что предвидит будущее и может пройти при всех по Волхову как по суше. Его слова нашли отклик среди горожан, которые хотели убить епископа. Когда новгородский иерарх в богослужебных одеяниях с крестом в руках вышел на площадь и сказал: «кто хочет верить волхву, пусть идет за ним, а кто верует (во Христа), пусть идет ко кресту», то на его сторону встали только князь и дружина, а весь народ перешел к волхву. В столь сложной ситуации разгоравшегося восстания князь Глеб Святославич проявил решительность и коварство. Спрятав под полу своего платья топор, он пошел к волхву и перед собравшимися горожанами завел с ним беседу. «Знаешь ли, что будет завтра поутру и во весь день до вечера?» — спросил он. «Все знаю», — ответил волхв. «А знаешь ли, что будет сегодня?» «Сотворю великое чудо», — сказал князю самоуверенный прорицатель. При этих словах Глеб выхватил оружие и одним ударом убил волхва. Народ в страхе и недоумении тотчас же разбежался. Как видим, почти столетие спустя религиозная ориентация различных социальных сил в Новгороде осталась той же, что и во времена Владимира: за епископом стояла военная сила и сам князь, тогда как на стороне волхва оказались все новгородцы.
Комментируя эти сообщения, Е.Е. Голубинский высказал небезосновательное предположение, что появление языческого проповедника в Новгороде приблизительно через пять лет после пророчеств его единоверца в Киеве не случайно. Возможно, не желавшие примириться с победой христианства язычники полагали, что около 1077 г. в мире должны произойти некие роковые события, а потому рассчитывали на успех. Последнее открытое выступление волхва зафиксировано под 1091 г. в Ростове, однако там он был сразу же схвачен и казнен.
Примечательно, что во второй половине XI в. выступавшие с открытыми антицерковными речами волхвы используют многие специфические христианские мотивы. Киевский пророк говорит о чем-то вроде конца света, идее, в целом не характерной для языческого мировоззрения, но ключевой в системе христианского богословия. Его новгородский единомышленник из своих будущих чудес особенно выделяет хождение по воде, что наталкивает на мысль о его желании уподобиться Иисусу.
Ко времени последних попыток язычества противостоять церковному вероучению относится, должно быть, и создание «теории» бога Рода. В опубликованном Н.М. Гальковским под условным названием «О вдуновении духа в человека» тексте XII—XIII вв. и обстоятельно рассмотренном Б.А. Рыбаковым, содержатся отголоски полемики проповедников-хрис-тиан с каким-то языческим учением о Роде как творце и первооснове всего сущего. По мнению Б.А. Рыбакова, в рамках традиционного восточнославянского язычества Род выступал в роли творца Вселенной, вдувающего жизнь в людей, каким-то образом связанного с подземным огнем-пеклом. В этом смысле, по мнению исследователя, он сопоставим с библейским Саваофом, египетским Осирисом и финикийским Ваалом. М.В. Попович резонно на это возражает тем, что «древний славянский Род не мог быть таким же «творцом всего», как христианский бог».
Однако если предположить, что реконструируемая Б.А. Рыбаковым концепция сложилась где-то на протяжении X—XI вв. при мощном воздействии учения о сотворении Богом мира и человека, то все получает естественное объяснение. Стремясь сохранить отеческую веру, убежденные язычники на протяжении столетия, последующего за официальным утверждением христианства на Руси, пытались в своем духе перетолковать основные идеи христианской теологии. Так что сохранявший в крестьянских массах свою популярность Род, которому поклонялись и после того, как Перун и даже Велес оказались почти забытыми, приобретал черты ветхозаветного Саваофа-Иеговы, сотворившего мир и вдунувшего душу в первого человека. Поэтому христианский проповедник должен был убеждать паству в том, что «Всему бо творец Бог, а не Род».
Несмотря на все попытки воскресить язычество как внутреннецелостную религию, оно оказалось неспособным открыто противостоять христианству. Вместе с тем и насильственно внедряемое в сознание широких крестьянских масс христианство не могло вытеснить старых языческих верований и представлений. Как и в условиях аграрных областей Позднеримской и Ранневизантийской империй, на Руси XI—XII вв. происходил сложнейший процесс взаимодействия церковного православия и народного язычества, специально рассмотренный в ряде работ дореволюционных и советских исследований. Особое внимание этим вопросам уделено в первой и пока единственной написанной с марксистских позиций истории русской церкви Н.М. Никольского.
Как заметил еще Ф. Энгельс, христианство «могло вытеснить у народных масс культ старых богов только посредством культа святых». Именно так старые боги Руси начинали выступать в роли христианских святых: Велес по созвучию слился с христианским святым Власом, черты Перуна восприняли прижившиеся в народе Илья Громовик и покровитель воинов святой Георгий Победоносец и т. д. Сознательное двоеверие XI в. постепенно сменялось двоеверием бессознательным. С XIII в. массы не только горожан, но и крестьян по всей Руси уже искренне считали себя христианами, однако их взгляд на мир все еще в основе своей оставался полуязыческим вплоть до начала XX в, как об этом свидетельствуют собранные в книге Н.С. Гордиенко признания представителей дореволюционного духовенства. Широкие народные массы восприняли обрядность и православный ритуал, однако языческие воззрения их далеких предков прочно удерживались в сознании.
Заключение
Подводя итоги сказанному, мы можем говорить о четырех этапах распространения христианства в Восточной Европе, охватившего целое тысячелетие: от появления в Херсонесе первых адептов еще преследуемого римскими властями вероучения до XIII—XIV вв., когда русские миссионеры приступили к крещению народов приполярной зоны: коми, карелов, лопарей (саами) и некоторых других.
Сперва христианство появилось на южном побережье Крыма. На протяжении IV—VI вв. при активном содействии византийского правительства, особенно при Юстиниане I, оно утвердилось главным образом на юго-западной оконечности полуострова — прежде всего в Херсоне. Влияние православной церкви в Крыму заметно усилилось в VIII в., когда из-за напряженного положения в Византии сюда в расчете на более спокойную жизнь бежали сотни, если не тысячи монахов, создавшие целую систему монастырей. В этом же и последующих столетиях заметно усилились связи между грекоязычным населением юга Таврики и славянами Среднего Поднепровья.
Второй этап христианизации Восточной Европы связан с образованием вокруг Киева ядра Древнерусского государства, развитием раннефеодальных отношений в обществе восточных славян и регулярными контактами военно-служивых и торгово-ремесленных групп населения среднеднепровских городов с корсуньскими купцами и жителями других причерноморских городов Византии. По днепровскому торговому пути христианство проникает до границ лесной зоны. В Киеве на протяжении IX—X вв. оно находит все больше сторонников и последователей в служилых и посадских кругах. Влияние христиан здесь преобладало уже со времен открыто исповедовавшей эту религию Ольги, так что для жителей Киева и его округи, как отмечал Н.М. Никольский, «реформа Владимира была завершением начавшегося еще за сто лет до него процесса».
Но если в Среднем Поднепровье в концу X в. христианизация уже завершилась, то для огромной массы населения Древнерусского государства, особенно на его северных, северо-восточных и восточных окраинах, мероприятия князя Владимира и последовательно продолжавшего его религиозную политику Ярослава означали лишь первые шаги по распространению православия. Насаждавшаяся сверху при помощи военной силы религия встречала активное сопротивление. Только с рубежа XI—XII в., особенно со времени княжения Владимира Мономаха, христианские представления начали активно утверждаться в сознании широких масс славянского населения лесных областей Восточной Европы. Поэтому XI—XII вв. можно считать третьим этапом рассматриваемого процесса.
Последний, четвертый этап распространения христианства на территории Восточной Европы связан главным образом с усилиями русских миссионеров XIII—XIV и даже XV—XVI вв., направленных на приобщение к православию неславянских, главным образом финно-угорских, народов Севера. Формально в этом деле были достигнуты успехи, однако в сознании народных масс вплоть до начала XX века прочно удерживались языческие представления.
Утверждение христианства на Руси явилось важнейшей вехой в истории мирового православия, все более терявшего свою былую роль в странах Средиземноморья. Уже в середине VII в. территории Сирии, Палестины и Египта, находившиеся в попечении трех патриархатов: Антиохийского, Иерусалимского и Александрийского (некогда равномасштабных Римскому и Константинопольскому), оказываются под властью утверждавших мусульманство арабов. Еще ранее официальному византийскому вероучению на этих землях активно противостояли оппозиционные к православию христианские направления, в первую очередь несторианство и монофизитство, что уже само по себе подтачивало авторитет греческого духовенства. Теперь же, при целенаправленной деятельности правительства Халифата по обращению населения бывших провинций империи в ислам, на протяжении двух-трех столетий учение Магомета получает в этих краях безраздельное господство.
В те же века крупных успехов в деле пропаганды христианства среди народов Западной Европы добивается латиноязычное духовенство во главе с римскими первосвященниками. После гибели Западно-Римской империи и утверждения на территории ее бывших провинций дружин варварских королей, необходимость борьбы за само выживание обусловила столь характерную для католицизма ориентацию на активную миссионерскую деятельность. Решающие успехи по приобщению к латинскому христианству германских народов, достигнутые на протяжении предшествующих столетий, были окончательно закреплены во второй половине IX в., при папах Николае I, Адриане II и Иоанне VIII.
В отличие от католического клира, православное духовенство никогда не играло активной политической роли, как правило, во всем безоговорочно поддерживая императорскую власть особенно после победы иконопочитания. Не принуждаемая обстоятельствами к активной деятельности, византийская церковь вплоть до середины IX в. не проявляла особой заботы о распространении христианства среди соседних с нею языческих народов. Этому не благоприятствовали и идейно-политические конфликты тех столетий, экономический упадок и внешние военные затруднения. После эпохи иконоборчества в истории Византии начинается полоса подъема, определяющего и более активную политику по отношению к соседям, в частности славянским народам, создававшим такие свои раннефеодальные государства, как Великая Моравия в Среднем Подунавье, Болгария на Балканах и Русь в Среднем Подненровье. Общественный строй последних предполагал восприимчивость наиболее передовых слоев их населения к христианской идеологии.
В такой ситуации все более осложнялись отношения между константинопольским патриархатом и Ватиканом. Рим и Константинополь боролись за сферы церковного влияния, за то, от кого славяне примут христианство. К этому времени и относится энергичная деятельность тесно связанных с патриархом Фотием православных миссионеров — Кирилла и Мефодий, которым удалось добиться немалых успехов в считанные годы. От Византии крещение приняли Великая Моравия и Дунайская Болгария, а в то время, когда братья организовывали церковную жизнь в Подунавье, греческому священнику удалось склонить к принятию христианства Аскольда и его ближайших сподвижников в Киеве.
Окончательное приобщение Руси к православию в конце X в. было последним значительным церковно-политическим успехом Византии. После смерти Кирилла (869) и Мефодия (885) их ученики были изгнаны из Чехии и Моравии католическим клиром. В середине X в. по католическому же обряду принял крещение польский князь Мешко. Несмотря на благоприятные условия для утверждения православия на территории бывшего Великоморавского государства и даже обращение в греческое христианство первых мадьярских королей Гейзы и Стефана I, Венгрия уже в начале XI в. также становится католической страной. В эти годы влияние католической церкви укрепляется и в скандинавских странах. Прочные позиции православие удерживает лишь в Грузии, достигающей своего расцвета в годы правления царицы Тамар (1184—1214). Однако грузинская церковь становится автокефальной (самоуправляющейся) еще в VI в., так что константинопольские патриархи в ее дела практически не вмешивались.
Успехи православия на Руси в XI—XIII вв. имели особое значение на фоне поражений Византии и исламизации ее бывших малоазийских провинций, захваченных турками-сельджуками после разгрома войск императора Романа IV Диогена в битве при Манцикерте (1071). Несмотря на энергичные усилия таких талантливых правителей и полководцев, как Алексей I Комнин (1081—1118) и его ближайшие преемники, ромейская держава неумолимо шла к крушению, ознаменовавшемся взятием Константинополя крестоносцами в апреле 1204 г.
В первой половине XIII в. мусульманство уже преобладает в бывших азиатских провинциях империи, а в Греции и в самой столице хозяйничают католики-итальянцы. Даже цари вновь воссозданной Болгарии вынуждены были до начала 30-х годов XIII в. придерживаться церковной унии с Римом. В Константинополе же православное духовенство на несколько десятилетий оказалось в подчинении у католического клира. Венецианцы и генуэзцы утверждаются на побережье Крыма, в Судаке и Балаклаве, и полностью берут в свои руки всю причерноморскую торговлю. Предоставленный самому себе Херсонес не мог конкурировать с новыми соперниками и постепенно приходил в упадок. Два татарских погрома — в 1299 и 1399 гг. — окончательно погубили город.
Параллельно всем этим драматическим событиям, разворачивавшимся на территориях, некогда подвластных Византии, на протяжении XI — первой половины XIII в. на Руси происходил стабильный экономический и культурный рост. Христианство в полной мере утвердилось в городах и (хотя бы внешне) в селах. Татаро-монгольское нашествие, уничтожившее важнейшие центры Южной и Северо-Восточной Руси, нанесло стране невосполнимый ущерб, однако бедствие скорее способствовало приобщению к христианской религии широких масс, нежели затормозило этот процесс. Деморализованные постигшим их горем люди искали в религии последнего утешения.
На многие века Русь превратилась в оплот восточного христианства, влачившего жалкое существование в Греции и на Балканах под пятой турецких захватчиков. Со времени правления Ивана III (1462—1505) Московское царство оказывается крупнейшим православным государством в мировом масштабе. Столетие спустя, при царе Федоре Ивановиче (1584—1598), политической деятельностью которого фактически руководил Борис Годунов, в Москве было учреждено патриаршество. Прибывший в столицу константинопольский владыка поставил в патриархи «Московские и всея Руси» митрополита Иова (1589). Формально русская церковь стала равной константинопольской патриархии, но если авторитет последней основывался главным образом на уважении к былому величию Византии, то московская патриархия, являясь одним из важнейших звеньев системы Русского государства, представляла собой реальную силу.
Список основной литературы
Энгельс Ф. Бруно Бауэр и первоначальное христианство // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 19. — С. 306—317.
Энгельс Ф. К истории первоначального христианства // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. — 2-е изд. — Т. 22. — С. 465—492.
Археология Украинской ССР: В 3 т. — Киев: Наук. думка, 1987. — Т. 1—3.
Белов Г.Д. Херсонес Таврический. — Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — 157 с.
Боровский Я.Ю. Мифологический мир древних киевлян. — Киев: Наук. думка, 1982. — 104 с.
Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. — К.: Наук. думка. 1988. — 260 с.
Голубинский Е.Е. История русской церкви: В 2 т. — М., 1901. — Т. 1. — 966 с.
Гордиенко Н.С. «Крещение Руси»: факты против легенд и мифов. — Л.: Лениздат, 1986. — 285 с.
История Византии: В 3 т. — М.: Наука, 1967. — Т. 1—3.
Никольский Н.М. История русской церкви. — М.: Политиздат, 1983. — 448 с.
Попович М.В. Мировоззрение древних славян. — Киев: Наук. думка, 1985. — 165 с.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. — М.: Наука, 1981. — 606 с.
Рыбаков Б.А. Киевская Русь и древнерусские княжества XII—XIII вв. — М.: Наука, 1982 — 592 с.
Сахаров А.Н. Дипломатия древней Руси. — М.: Мысль, 1980. — 358 с.
Толочко П.П. Древний Киев. — Киев: Наук. думка, 1983. — 327 с.
Толочко П.П. Древняя Русь. — Киев: Наук. думка, 1987. — 245 с.
Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсонес. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. — 362 с.