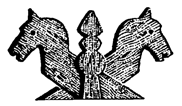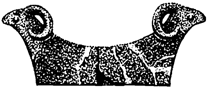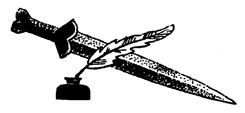Научный рецензент Махнева О.А., художник Чупиков М.Б.
Симферополь, Таврида, 2000 год.
Предлагаемая читателю книга — итог многолетних раздумий автора, симферопольского журналиста и краеведа, над причинами неизменно драматической судьбы главной археологической достопримечательности Симферополя, городища «Неаполь-Скифский» — остатков древнего города, столицы поздних скифов.
Авторское толкование событий из жизни города, трагически погибшего более чем полторы тысячи лет тому назад, иногда расходится с общепринятой точкой зрения, а выводы из авторских раздумий неожиданно соединяют «дела давно забытых дней» с тревогами и заботами нынешнего времени. Тем книга и интересна. Предлагается она читателю в авторской редакции.
Фамилия автора знакома по крайней мере трем поколениям симферопольских краеведов и туристов. В начале 70-х годов в «Крымской правде», в других областных газетах появляются первые очерки Б. Чупикова об уникальной крымской природе, готовой одаривать каждого здоровьем и радостью, но взамен ожидающей бережного к себе отношения. Не только к себе, но и к многочисленным памятникам истории нашего края. Очерки учили понимать красоту окружающего мира, ценить опыт и мудрость всех участников многотрудного пути человечества, именуемого историей, и в том находить высшее духовное наслаждение. Эти публикации довольно скоро были замечены читателями.
Вслед за очерками вышла первая книга Нагорье Караби — путеводитель по крупнейшему плато Крыма. Через 12 лет, в 1987 году, увидела свет еще одна книга Б. Чупикова «Караби-яйла», о той же притягательной для туристов горной местности.
В период подготовки к 200-летию Симферополя автор этой книги в течение восьми лет проводил все свободное время в областном архиве. Обнаружил довольно много неизвестных фактов из ранней истории крымской столицы. Наиболее интересные из этих фактов легли в основу сорока статей, опубликованных в «Крымской правде». Логическим завершением его исследовательской работы над архивными документами стало участие в создании юбилейного краеведческого очерка «Симферополь», отпечатанного в дни празднования 200-летия главного города Крыма.
Неаполь-Скифский остается его непреходящей душевной болью, разделенной три десятилетия назад с О. И. Домбровским, ведущим археологом Крыма. В последнюю встречу (кто мог знать тогда, что она последняя!) Олег Иванович вдруг произнес слова, от которых заныло сердце: «Вы проживете дольше меня, не оставляйте Неаполь, защищайте его! Напишите о нем книгу.» И вот эта книга перед вами. Ее автор сдержал свое обещание, исполнил свой долг.
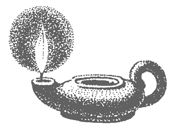 Содержание
Содержание
- Дела не столь уж давних дней
- Был там какой-то Керменчик
- И жизнь развеялась как дым?
- Не развеялось то, что не сбылось
Дела не столь уж давних дней
О том, что в Симферополе, на Петровских скалах, находятся остатки последней столицы скифов — древнее городище Неаполь-Скифский, автор книги, уроженец Крыма, узнал далеко от родины, будучи школьником-подростком из семьи эвакуированных в Башкирию. Узнал в первые послевоенные годы (точнее вряд ли удастся вспомнить). Скорей всего, случайно, из подшивки газет, журналов, которую листал в школьной библиотеке или в красном уголке избирательного участка. Других возможностей у большинства людей просто не было.
В море статей о преодолении последствий войны, о восстановлении народного хозяйства, о предпосылках дальнейшего снижения цен встретилось нечто для школьника интересное: заметка о работах Тавро-скифской археологической экспедиции, развернувшихся на скифском городище под Симферополем в конце лета 1945 года, о том, что через год они привели к сенсационным открытиям. Найден царский мавзолей, чудом избежавший грабителей, сохранивший для нас уникальную, богатейшую коллекцию золотых и других не менее ценных изделий древних мастеров; обнаружены десятки погребальных склепов скифской знати. Даже специалистов склепы изумили высоким уровнем строительного мастерства скифов и столь же высоким уровнем скифского художественного искусства, представленного на стенах склепов графическими рисунками и живописными картинами, фрагментами сказочно красивых росписей интерьеров дворцов и храмов, уцелевших на их руинах, а чаще на кусках обрушенной штукатурки.
Понятен жгучий интерес подростка к открытиям и тайнам, особенно археологическим. Но почему скромная репортерская «информашка» его так обрадовала и взволновала? Возможно, в ней послышался привет с родины, намек на то, что будущему автору суждено все-таки вернуться в Крым? Что-то было еще, самое главное, упорно ускользающее от сознания. Выявить главное снова помогла пресса, какой-то иллюстрированный журнал, наверное, «Огонек». На его страницах тот же школьник обнаружил репродукции рисунков из склепов Неаполя-Скифского, а также зарисовки найденных на городище архитектурных деталей, узоров, имеющих прямые аналогии в русской культуре. Бросился в глаза один из рисунков: скифская богиня с развевающимися прядями волос держит под уздцы двух вздыбленных, крылатых коней. Вот откуда родом каноническое изображение славянской Берегини, один из наиболее популярных сюжетов у русских, украинских и белорусских вышивальщиц рушников вплоть до начала XX века! Вот главная составляющая внезапного и глубокого интереса к Неаполю: пронзительное чувство личной причастности к жизни, бурно кипевшей там, где сегодня лишь кое-где проглядывают из-под травы древние камни.
А собственная жизнь текла своим путем, руководствуясь какой-то своей заданностью: учеба в МГУ, женитьба, первые шаги в журналистике, первые ошибки и неудачи. Далеко от Крыма пролегал этот путь, и все-таки он был связан с Неаполем-Скифским. Как только автор обзавелся зарплатой, он стал ежегодно приезжать в Крым на отдых. Каждый приезд начинался и заканчивался посещением пустынного, холмистого плато на Петровских скалах. И каждый раз перед настырным отдыхающим возникал один и тот же вопрос: что случилось, почему вслед за прогремевшими на весь мир сенсационными открытиями наступило странное затишье, больше похожее на забвение? Пытался получить ответ у людей, встреченных на плато, у сотрудников Крымского краеведческого музея. Вместо ответа слышал расплывчатые, уклончивые фразы.
После «многолетних стоянок на промежуточных станциях» в феврале 1971 г. ваш автор наконец-то переехал в Крым, в Симферополь. Его первое место работы на родине — книжное издательство «Таврия», выпускавшее (и выпускающее), в основном, краеведческую литературу. Поэтому каждый сотрудник издательства, так или иначе, входил в курс краеведческих забот и хлопот. Туман, скрывавший Неаполь-Скифский от «посторонних глаз», потихоньку начал рассеиваться.
Действительно, были у городища славные 1945 — 49 годы, годы всеобщего восхищения, чуть ли не поклонения, во всяком случае массового паломничества к его руинам. Если на 5 процентах разведанной территории городища сделано столько выдающихся открытий, то сколько их ждет нас в будущем, когда археологи, согласно намеченным планам, раскопают все городище, все 20 гектаров археологической целины, такой же по площади пригород, обширные участки на месте предшествовавших городу поселений под Петровскими скалами и в Петровской балке!?
Конечно, на раскопки потребуется, как минимум, сто лет, даже при высоком уровне механизации земляных работ, оперативном, публичном осмыслении добываемых материалов. Но разве прорыв к тайнам скифской истории не стоит любых усилий?
Были не только планы. Под них подводилась солидная материальная и научная база. В Симферополе, в «доме Попова» (ул. Ленина, 7) открылся филиал Академии наук СССР, при нем создан отдел археологии, который тут же приступил к подбору специалистов и формированию постоянно действующей экспедиции для исследования Неаполя-Скифского вместо завершившей работы Тавро-скифской экспедиции из Москвы.
Куда все делось? Ликвидировано неожиданным распоряжением из «центра»? Ничего подобного. Разве что филиал АН СССР и отдел археологии переехал в 1970 г. в Воронцовский дворец, ближе к Неаполю. Не для того же, чтобы его не замечать? Тогда почему экспедиции отдела (а их насчитывалось не менее десятка) исследуют любые археологические памятники Крыма, но не городище на Петровских скалах? Потеряли вдруг к нему интерес? Безразличие профессионалов передалось жителям и транзитным гостям крымской столицы. Среди них интерес к городищу тоже упал почти до нуля.
Подступиться к загадке, казавшейся неразрешимой, автору помог перевод в феврале 1974 г. в редакцию «Крымской правды». Газетчику положено знать, что происходит вокруг, в том числе за бетонным забором у восточного края городища. То, что на огороженной территории расположены очистные сооружения Симферопольского горводоканала, ни для кого не составляло секрета, как и то, что построены они в 1926 г. и занимают участок наспех раскопанный древней городской застройки.
Явление не новое и не редкое. За ним стоит очень давняя привычка решать сиюминутные потребности первым, пришедшим на ум способом, не думая о возможных тяжелых последствиях в будущем. Приглянулось городище проектировщикам водопровода, и заняли его под очистные сооружения. А что? Раньше Симферопольская городская управа в течение сорока лет сдавала в аренду участки городища всем желающим добывать там строительный камень. И что-то, к тихой радости чиновников, капало от арендаторов в городскую казну. Еще раньше брали камень на городище татары, строили из него новый татарский город Акмечеть. Никаких древностей там наверняка не осталось.
Через 20 лет находки Тавро-скифской экспедиции опровергли дилетантские измышления. Однако вскоре они зазвучали вновь, причем в связи с той же водоочисткой. В период археологического бума этот коммунальный объект старался выглядеть как можно скромней и безобидней, но едва наступило археологическое затишье, развернул на заповедной территории бурную хозяйственную деятельность. Для начала городище было изрезано траншеями и канавами для прокладки всевозможных коммуникаций, от силовых кабелей до труб большого диаметра.
Столь рьяного квартиранта никак нельзя было оставлять без присмотра, что вынудило отдел археологии завести на Неаполе постоянную экспедицию. Увы, не для планомерных раскопок, а в качестве пожарной команды, обязанной «в сжатые сроки» провести археологическую разведку указанного коммунальниками участка городища, где затевались очередные, далекие от археологии землеройные работы. На практике это означало успеть хоть что-то выхватить из-под отвала бульдозера. Официально это именовалось охранными раскопками.
Ближе к 1984 году, к 200-летию Симферополя, на долю Неаполя-Скифского вновь выпали (в который раз!) тяжелые испытания: развернулась основательная реконструкция самих очистных сооружений, по сути дела, строительство на старом месте новых, более мощных систем водоочистки. Как всегда, с самыми благими намерениями: утолить жажду города.
Занимаемую территорию, естественно, расширили. С прирезанных участков соскребли бульдозерами культурный слой вместе с хорошо сохранившимся под наносами земли низом южной, наиболее мощной оборонительной стены, остатками башен и прилегающей к стене плотной, пригородной застройкой.
Случалось, что у кого-то из археологов сдавали нервы, кто-то расчитывался и уходил из городища, потому что не в силах был видеть, как уничтожают уникальный памятник истории. Всегда оставалась с Неаполем-Скифским Ольга Александровна Махнева. На городище она пришла 12-летней школьницей, участвовала в первых послевоенных раскопках. Совсем недавно ее проводили на пенсию с должности начальника Симферопольской археологической экспедиции. Той самой, что занималась на Неаполе охранными раскопками. У Махневой, хрупкой, приятной женщины, нервы не сдали, хотя, как ей казалось, они растрачены полностью, вместе со здоровьем… Её выручал характер, унаследованный от отца, крымского партизана Александра Дмитриевича Махнева.
Впечатлений и выводов накопилось вполне достаточно для того, чтобы автор утвердился в мысли: его журналистский долг — всеми силами бороться с пагубной традицией ставить сиюминутные интересы выше интересов стратегических. А начинать борьбу надо с того рубежа, который предлагает жизнь: с Неаполя-Скифского.
Автор самозабвенно ринулся в бой: выступал в защиту Неаполя и против очистных сооружений в «Крымской правде», в краеведческих изданиях — всюду, где удавалось что-то сказать или опубликовать.
Правда, его несколько смущало то обстоятельство, что со стороны специалистов, инженеров городского хозяйства, тоже не слышалось восторгов по поводу того, что творилось на Петровских скалах. Специалисты тоже считали, что перестраивать очистные сооружения на старом месте — затея бесперспективная. Она не избавит Симферополь от хронической жажды, наоборот, продлит ее лет на 50, до тех пор, пока не будут построены очистные сооружения на другом, более подходящем, прежде всего, более высоком месте. Они же конкретно назвали самое подходящее место: километрах в пяти к югу от городища, вблизи гребня куэсты и геодезической отметки 465,4 м. над уровнем моря. Выше городища почти на 186 м., почти вровень с телевизионной башней Крымского телецентра. Это высшая точка Симферополя и его окрестностей.
Позиция специалистов заронила в душу автора первое сомнение: не принимает ли он следствие за причину, не скрывается ли за пагубными традициями и очистными сооружениями нечто более глубокое и важное? Снова главная составляющая, которая не дается в руки? Именно она, в чем автор окончательно убедился, когда пришлось защищать Неаполь (вместе с очистными сооружениями!) от одной очень шустрой фирмы. Последняя вознамерилась (тоже исключительно ради блага симферопольцев) выдолбить в недрах городища сотни ячеек для индивидуальных подземных гаражей, т. е. уничтожить городище снизу, где в карстовых полостях очень даже могут обнаружиться археологические материалы из тех, что редко встречаются на обычных, поверхностных раскопках. Бесстыдное святотатство удалось, к счастью, остановить.
Тоже сиюминутная потребность? Но почему выбор пал именно на Неаполь? Водопроводчиков он привлек в 1926 г. тем, что лежал выше всей тогдашней городской застройки. А гаражников? В Симферополе хватает скальных обрывов и без Неаполя.
Размышления такого рода заставили внимательно посмотреть вокруг и увидеть то, от чего прежде отвлекал бетонный забор очистных сооружений. Увидеть, что древнее городище в осаде, что со всех сторон его теснят разношерстные войска, объединенные общей, пока неизвестной, целью или идеей.
В роли авангарда выступил обычный гаражный кооператив (еще до появления подземного). От имени ветеранов Великой Отечественной войны он исходатайствовал себе участочек в охранной зоне памятника, на древнем кладбище, среди склепов, частью исследованных археологами, частью никому не известных. Последнее обстоятельство обнаружилось в ходе взрывных работ при выемке скального грунта под котлован гаража. Взрывы отгремели, а местная ребятня еще долго находила вокруг строящегося гаража осколки дорогой керамической посуды, бронзовых украшений, бусин и другие мелкие предметы из не найденного и уничтоженного склепа.
В отличие от гаража, без шумных скандалов и взрывов, поднялось вблизи крупное промышленное предприятие. Наиболее эффектный вид у него со стороны ул. Ялтинской, от госуниверситета. Первое, что привлекает внимание, — железобетонный редут, связывающий скалы под заводскими корпусами, «Редут», несомненно, влетел в копеечку. На ровном месте, — а такое можно еще найти, — он бы вообще не понадобился. Зачем было громоздить предприятие на Петровские скалы? Деньги некуда девать? Сегодня самое распространенное изречение — «нет денег». Тем более странно, что на бессмысленные расходы деньги находятся даже сегодня.
С востока плато штурмуют многоэтажные жилые дома. Ни оползневой склон, ни крутизна им не преграда. Их застройщиков никакие сверхзатраты, надо полагать, тоже не пугают. Помнится, на этом косогоре года два стоял пустым сданный под ключ 20-этажный жилой дом. Его будущие жильцы терпеливо ждали конца грандиозным, сравнимым разве что с египетскими, работам по укреплению фундамента. Зачем ставить такую громадину в таком неподходящем месте?
Дальше к северу, у подножья Петровских скал, где тоже охранная зона городища и тоже непочатая археологическая целина, сварливо теснятся мелкие офисы-лачужки не всегда понятной принадлежности. Сидящие в них люди убеждены, что их неотъемлемое право — поступать со «своими» древностями как заблагорассудится: могут древности срыть и вывезти на свалку или затоптать. И не только древности. Чтобы расширить занимаемую территорию, они методично затаптывают могилы расположенного там же старого русского кладбища, где похоронено немало людей в период оккупации, а также бойцов, павших в боях за освобождение Симферополя весной 1944 г. Кому-то одинаково безразличны и скифы, и освободители города. Многозначительный факт!
Еще дальше, почти до Петровской балки, лепятся к подножью обрыва воинские склады. Они расширяют свою полезную площадь не затаптыванием могил, а за счет, как естественных карстовых полостей, так и искусственных, вырубленных в недрах массива по собственному разумению.
Со стороны Петровской балки на городище давит «частный сектор», нацеливаясь полностью освоить территорию памятника мировой цивилизации под пастбище для коров, коз и овец.
Картина сложилась мрачная, но рисовать ее полностью стоило, иначе не обнаружить уязвимое место в цепи осаждающих. А так сразу выяснилось, что сила их натиска неизменно падала, когда пробуждался общественный интерес к многострадальному городищу.
Эту закономерность убедительно продемонстрировал всплеск общественного сознания в связи с 200-летием крымской столицы, породившим новые мысли о нашем историческом прошлом вообще и о Неаполе-Скифском в частности. Неожиданно легко нашлась N-ая, разумеется, скромная, сумма на «оживление и первичную музеефикацию главной достопримечательности Симферополя». Вся выделенная сумма (кажется, 25 тыс. руб.) была истрачена на сооружение (редкостно халтурное) охранной башни-павильона над уцелевшей нижней частью царского мавзолея, гробницы Скилура. Строительство тянулось так долго, что общественный интерес, столкнувшийся к тому же с «рыночными преобразованиями», просто не мог не угаснуть.
«Музеефикация» тотчас заглохла. Ничейную башню облюбовали бомжи, навели в ней свой порядок. Остатки мавзолея, занимавшие середину охранного зала башни, т. е. место, наиболее удобное для костра и ночлега, незваные гости разобрали до основания, древние камни откинули к стенам помещения, все деревянные детали — настил обзорного балкона, дубовые двери и кое-что по мелочам — сожгли в костре. Получилось, что в конечном счете деньги, выделенные на «музеефикацию», пошли на окончательное уничтожение мавзолея, на очередное надругательство над прошлым. Вновь возникло давнее, навязчивое ощущение, что для кого-то вопрос жизни или смерти: удастся стереть с лица земли городище последней скифской столицы или нет?
Пока всего лишь ощущение не пойманной главной составляющей, журавля в небе. Мы его обязательно поймаем, для чего прежде надо разобраться с синицей в руках, со слабым звеном вражеского фронта. Было бы замечательно, если бы это звено посчитали главным в годы сенсационных находок. Тогда ничего не стоило организовать на городище экскурсионное обслуживание посетителей, от которых не было отбоя. Таким путем можно было собрать в короткий срок достаточные средства, чтобы Неаполь мог обзавестись приличным музеем, как, например, в Херсонесе (в Симферополе потенциальных посетителей несравненно больше); проводить не охранные, а планомерные, интересные для посетителей раскопки и реставрационные работы. Ежедневное присутствие на городище немалого числа экскурсантов было бы равнозначно постоянному присутствию строгого общественного контроля и пресекало в корне любые посягательства на исторический памятник.
Если бы да кабы. Разговор об упущенных возможностях оставим до лучших времен. Сейчас перед нами стоит другой вопрос: что делать в нынешних условиях? Делать надо то же самое, что должны были делать в те годы. Только подступаться к делу придется с противоположной стороны, с оживления общественного интереса к действительно главной исторической достопримечательности Симферополя.
Для начала надо всего лишь чаще бывать на городище, хотя бы ради отдыха, субботней или воскресной прогулки. Очень подходящее место, особенно ранней весной или в золотую пору осени. Воздух там всегда чище, чем в любом другом уголке Симферополя. Там все, даже плато, излучает здоровье. На лечебные свойства городища первой обратила внимание О. А. Махнева:
— Казалось бы, условия на городище далеко не курортные, тем более на раскопках, хотя они, как правило, ведутся в летние, курортные месяцы. С утра до вечера, как и все участники экспедиции, работаю на солнцепеке, в пыли, даже воды вволю не попьешь, на плато ее нет, а чувствую себя все время бодрой, здоровой. Но кончается полевой сезон, проходит какое-то время без Неаполя, и напоминают о себе старые болячки.
Еще одна тайна древнего городища, еще одно из слагаемых беспримерной стойкости самоотверженной женщины О. А. Махневой.
Обрести душевное равновесие, столь важное в нынешних условиях, можно еще проще. От Центрального автовокзала перейти по «горбатому» мостику на левый берег Салгира, на ул. Воровского и побродить по прилегающим к ней улочкам старых одноэтажных домиков, полюбоваться нависающей над ними громадой Петровских скал. Две тысячи лет назад, при скифах, они были такими же, как и сегодня. Скифы. Не их ли голоса пытаются пробиться к нам сквозь шум водообильного родника у подножья так много видевшей природной твердыни?
К роднику и площадке, где обычно тренируются симферопольские скалолазы, есть узкий проход между домами с ближайшей к обрыву тихой улочки. От родника непременно захочется подняться на плато. Туда зовет хорошо натоптанная, крутая тропа. Наиболее удобный подъем на плато — по косогору, влево от устья Петровской балки, куда легко попасть с троллейбусной остановки «универсам Киев» (на ул. Киевской), если от нее пройти по центральной аллее парка Студенческого до мостика через Салгир. Остается пересечь ул. Воровского. За ней и начинается заметная издалека тропинка на плато.
Первое желание каждого, кто завершил подъем на городище, на Петровские скалы, т. е. на высоту птичьего полета (50 м.) — окинуть взглядом оставшийся внизу Симферополь, красивый и гордый даже среди свалившихся на всех нас напастей. На юге панорама города резко обрывается пустынным, бугристым полем. Ясно, что это давно не городская окраина, что именно здесь 1700 лет назад тоже был город, скифская столица Неаполис.
Столь красноречивый контраст отодвигает далеко в сторону невеселые повседневные заботы, настраивает мысли и чувства на эпический лад, чуждый унынию и усталости. Что с того, что на городище ничего нет! На поле Куликовом тоже стоит один мемориал, сооруженный через 500 лет после беспрецедентной битвы. То же — на Бородинском поле, в других подобных местах, где вершилась отечественная история. Люди всегда посещают такие места: в наступившее «смутное» время они, кажется, делают это охотнее, чем раньше. Ибо там сама земля, само пространство возвышают и укрепляют человека духовно, помогают не устать раньше времени, преодолеть все трудности, выпавшие на его долю. Кто это осознал, тот крепче стоит на ногах, тому не страшны ни наркомания, ни прочие «тлетворные влияния». Тем самым он доказывает другим, что за общее, национальное прошлое надо уметь бороться, уметь возвращать оставленные позиции, особенно такие, как Неаполь-Скифский. Он зовет к борьбе, в которой важны не только земля и пространство — каждая уцелевшая крупица истории.
Его призыв обязательно находит отклик. Как бы сам собой зарождается и ширится поиск наиболее эффективных средств идейной борьбы, таких видов массовой пропаганды исторических знаний, которые могли бы донести до современников истинный смысл великих уроков истории. Кто ищет, тот находит. Одна из находок — театрализованные «сражения» на Бородинском поле в день прославленной битвы, 7 сентября (26 августа по ст. ст.). Таким образом, «День Бородина» возведен в ранг общенационального ежегодного праздника.
Нам, симферопольцам, предстоит действовать в том же духе (если мы намерены именно действовать, а не вести праздные разговоры), от уединенных прогулок переходить к организованным экскурсиям. На первых порах ознакомительным, например, воскресным, проводимым один-два раза в день, в зависимости от спроса. Когда появятся опыт и деньги, сделаем экскурсию ежедневной, для чего арендуем или получим от города помещение под экскурсионное бюро. Затем откроем непритязательный, но впечатляющий музей. Экспонатов для него, по словам археологов, найдется сколько угодно в музейных запасниках и на складах археологических экспедиций. Далее скопируем и поместим в своем музее художественные росписи склепа № 9 (если к тому времени его не доконает проложенная сверху «более короткая и удобная» самодеятельная дорога).
При неизменно деловом подходе многое найдется для экскурсионного показа и там, где сейчас «ничего нет» . И мы наверняка доживем не только до строительства, но и торжественного открытия музея, достойного Неаполя-Скифского, экспозиционного павильона. Его проект выполнен более 20 лет назад авторским коллективом (архитекторы Б. В. Кондрацкий и А. Ф. Зоря, археолог М. А. Фронджуло). В проекте суммирован мировой опыт экскурсионного дела, последовательно проведен принцип максимальной наглядности и зрелищности, комплексного использования как традиционных, так и новаторских методов музейной работы, от демонстрации археологических материалов и реконструкций зданий, ландшафтов скифского времени, копий рисунков и орнаментов, найденных на городище, до картин на скифские темы современных художников. Предусмотрена также демонстрация кинофильмов того же плана, документальных и художественных. Последние непременно появятся, когда сложится достаточно сильный (100—200 человек), профессиональный, а главное — авторитетный во всех слоях творческой интеллигенции коллектив сотрудников экспозиционного павильона.
Проект павильона не устарел и по-прежнему достоин воплощения в жизнь. Но 20 с лишним лет — срок достаточный, чтобы заметно изменить наши взгляды, вкусы, привычки. Чтобы потребовать соответствующих изменений и дополнений в проекте. Если за основу взят принцип зрелищности, то, наверное, нельзя упускать из виду самое зрелищное, театральное искусство, ограничиваться лекторием. В экспозиционном павильоне должен быть зал, пригодный для театральных постановок. А пьесы о жизни скифов, как и фильмы, появятся «сами».
Поставить здание музея-павильона лучше все-таки за пределами городища, без посягательств на уничтожение еще одного участка уникального культурного слоя, без опутывания проекта клубком коммуникационных и транспортных проблем. Наиболее подходящее для него место на ул. Воровского, левее подъема на городище от устья Петровской балки, где северный край Петровских скал и последние в ряду под ними армейские склады. Музейное здание будет восприниматься рвущимся в уличную суету из каменной толщи, из забвения.
Подземные помещения армейских складов пригодятся и музейному зданию: для показа громоздких экспонатов древних скульптур, разного рода каменных плит с надписями, барельефами и т. д. Наверное, нашлось бы там надежное место для долгого хранения экспедиционных археологических материалов. Такое место было бы очень кстати, если в том же музейном здании, или по соседству, разместить и отдел археологии. Соседство, которое, несомненно, обернется для экскурсионных работников и археологов взаимной пользой.
Неаполь-Скифский
На самом городище, ломимо раскопок, допустимы лишь реставрационные работы, воссоздание древних построек или их фрагментов, вдоль экскурсионных маршрутов.
… Вот когда оживет и заговорит во весь голос крымский град Китеж, призрачный, почти исчезнувший и все-таки существующий город на Петровских скалах. И мы все услышим его голос, и каждый из нас (кто-то, возможно, впервые) глубоко задумается над вопросами, которые раньше не могли придти в голову: кто они, скифы, основавшие свою столицу в центре Крыма (тогда Таврики), каково их место в истории, в чем проявляется их влияние на сегодняшний день?
Кому же не по нраву такой поворот в судьбе уникального городища? На первый взгляд, просто бездельникам, прикрывающим свое безделье «здравомыслием» и скептицизмом. Они тут же прибегнут к «безотказной» уловке: кто, мол, способен сегодня думать о памятниках истории? Каждый, как умеет, борется за выживание, стараясь не заглядывать в завтрашний день, где его ждет все то же нищенское прозябание на жалкую зарплату или пенсию, ждет зима в нетопленой квартире, без воды и света. Или того хуже: тяжелая болезнь, потеря работы.
Все верно и все ложь, которая заключена в умолчании о том, что борьба в одиночку с общими бедами всегда обречена на поражение. Победа всегда за теми, кто борется сообща. Даже на экскурсионном поприще. За положительными примерами не надо ездить за море, пересекать границу. Достаточно побывать на Чатырдаге, в пещере Мраморной. Сегодня она — один из самых посещаемых экскурсионных объектов Крыма.
Открытая лет 10 назад, Мраморная тотчас привлекла внимание «коллекционеров», любителей сокровищ подземного царства — «цветов», «гирлянд» и множества других, редкостно красивых деталей пещерных интерьеров. А в сказочных залах-дворцах и галереях Мраморной очень даже было чем поживиться.
Не показную, подлинную заботу о только что открытой пещере проявили спелеологи. Они понимали: единственная возможность спасти Мраморную — оборудовать ее для экскурсионного использования. Одним словом, музеефицировать. И как можно скорее. Иначе с Мраморной случится то же, что случилось с Красной пещерой. Дебаты о музеефикации самой длинной карстовой пещеры СССР велись лет 40 (сопоставимо со сроками дебатов о Неаполе-Скифском). «Коллекционеры» вполне успели разграбить легкодоступную привходовую часть (2,5 км.) Красной до последнего крохотного сталактита.
Спелеологи не ввязывались в дебаты, не ждали манны небесной «сверху» или «сбоку». Они действовали. Собственными силами подготовили для показа посетителям небольшой отрезок Мраморной. По мере того, как рос поток желающих взглянуть на подземное диво, а с ним финансовые возможности энтузиастов, один за другим вовлекались в экскурсионный оборот сверкающие разноцветными огнями хрустальные дворцы нескончаемого подземного лабиринта…
Обратите внимание: открыта, «взошла» и расцвела Мраморная в рыночное, «безденежное» время. Сейчас малое «пещерное» предприятие «Оникс» оборудует для показа еще несколько пещер в окрестностях Мраморной, собирается купить для экскурсионных целей солидный участок нижнего плато Чатырдага.
Не менее, если не более поучительным для нас примером является народный художественно-прикладной музей села Скворцово Симферопольского района. Открыт он по инициативе и на средства жителей села. Интересен прежде всего тем, что экспонирует живописные картины, образцы вышивок, чеканки по металлу и резьбы по дереву, созданные руками скворцовских полеводов, виноградарей, тружеников животноводческих ферм. Полюбоваться произведениями творчества местных мастеров приезжают тысячи людей из стран ближнего и дальнего зарубежья, вплоть до Кубы и Кении.
Как видите, в предложениях автора возродить Неаполь-Скифский в качестве экскурсионного объекта ничего прожектерского нет. Более того, отчетливо прорисовалась стойкая тенденция самих народных, духовных начал при малейшей возможности тотчас принимать зримые черты и формы. Видимо, для того, чтобы прочнее связать народное самосознание с окружающим миром и далеким прошлым и тем самым укрепить его.
Кто и почему этому препятствует? Кому выгодно обессиливать нас духовно, растворяя в чужом мироощущении, чужом прошлом — американском, турецком и т. д.? Хотя мир в целом никакой выгоды от нашего растворения, попросту говоря, исчезновения, не получит, наоборот, станет беднее и беззащитнее.
… Кружит в небе не пойманный нами журавль, неразгаданная главная составляющая. Идти нам к разгадке за тридевять земель, всё дальше в прошлое. Полетят мимо столетия, а на Петровских скалах те же мертвые руины. Города всё нет и нет. Его нет и в роковом для нас XIII веке.
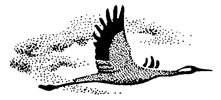
Был там какой-то Керменчик
На исходе XIII века, через тысячу лет после гибели последней скифской столицы (при обстоятельствах, так до конца и не выясненных), в Крым пришли татары. С овцами, лошадьми, коровами, детьми и женами. Пришли, чтобы навсегда поселиться в приглянувшейся тучной и благодатной крымской степи. Соответственно себя и вели, затаив на время степные, разбойные повадки.
Переселенческая татарская волна докатилась до неприступного каменного обрыва (ныне это Петровские скалы). Выше обрыва располагалось довольно крупное селенье. Оно предстало перед чужеземцами как на ладони, когда они поднялись на возвышенность к западу от него, за глубоким ущельем (ныне это Петровская балка). В лучах предзакатного солнца пламенели черепичные крыши. Кое-где уже поднимался к небу мирный дымок семейных очагов. Неожиданно залаяла собака («Зоркий шайтан, чужих заметил»); из подворотни, возмущенно кудахтая, вылетела на дорогу курица («И-и, как птица рассердил хозяйку!»). Мужчина в красной рубашке вел на поводу ослика, запряженного в двуколку с дровами. Прошла женщина с кувшином на голове…
Обычное горное селенье. Если бы не одна странность: с юга, со стороны пологого пастбищного склона его прикрывала стена невиданной, циклопической мощи, с шеренгой столь же громадных башен, частично разрушенных, но от того не менее грозных.
Когда дошла очередь до прямого знакомства с жителями странного селенья, татары не преминули спросить, кто построил такое укрепление, выполнил работу, для которой человеческие руки заведомо слабы?
Никто не смог удовлетворить любопытство пришельцев, включая старейшин. Все, что последние знали, уложилось в четыре фразы. «В незапамятные времена был на этом месте большой, столичный город. Теперь столица далеко на юге, называется Феодоро. То же имя носит и христианское государство, владеющее горами и лесами южной части полуострова. Здесь северная окраина Феодоро, пограничье».
Говорили местные жители на греческом языке и называли себя греками. С жителями заглохших греческих колоний татары встречались и раньше — на кавказском берегу Русского моря (ныне Черное), в устье Дона, в Борисфене (б. Ольвии) на Днепре. На тех греков новые соседи татар мало походили.
Извечная крымская драма. Позже появятся деревни голубоглазых татар-мусульман, упорно враждующих с «типичными татарами» окрестных деревень, хотя и те и другие давно забыли причину этой непреходящей вражды. Потом появятся татары-христиане… Ни для кого не секрет, что сегодняшние крымские события чреваты повторением той же драмы в будущем.
Граница волну переселенцев остановила, тем более что принадлежала она государству, умеющему, в чем татары вскоре убедились, за себя постоять. Не очень-то и хотелось прирожденным степнякам лезть в горнолесные дебри. Их вполне устраивало крымское степное раздолье. А в жизни на руинах скифской столицы практически ничего не менялось еще лет 200. Печальные перемены принес год 1475-й. На крымское побережье высадились турецкие войска. Им удалось то, что так и не смогли сделать татары — взять штурмом (после 6-месячной осады) столицу княжества Феодоро, присоединить непосредственно к своим владениям само княжество. Поэтому горнолесная часть полуострова в состав Крымского ханства никогда не входила. Через 300 лет поражение в русско-турецких войнах вынудит Турецкую империю уступить свои крымские владения России. Тогда же, после громкой победы 1475 г., турок занимали куда более приятные хлопоты. Среди них первоочередные — каким образом подчинить, а затем ассимилировать феодоритов. Возобладала идея татаризации христианского населения путем размещения на его земле возможно большего числа татарских деревень.
Лет через 30 идея колонизации легла в основу всей внутренней национальной политики Крымского ханства. Удавшийся эксперимент следовало довести «в сжатые сроки» до логического конца — парализовать всякую самодеятельность крымских христиан, начиная с долины Салгира (тогда еще Истра), традиционного, трудно контролируемого пути из горной «глубинки» к морю, к общению с внешним миром. На столь важном направлении одной сельской колонизацией не обойтись. Для контроля над всей долиной нужен крепкий татарский город. И он появился, как по щучьему велению, — город Акмечеть. Появился по соседству с тем, что оставалось от бывшей скифской столицы, на возвышенности за глубоким ущельем (Петровской балкой).
Керменчик
Несколько позже на другом, не менее важном направлении и с той же целью появится еще один город, новая столица Крымского ханства — Бахчисарай.
Акмечеть (ныне «старый город» Симферополя) построили быстро. В немалой степени потому, что камень для своих домов татары «добывали» на древнем городище, из крепостных сооружений и развалин крупных общественных зданий. Скифского камня с избытком хватило на всю Акмечеть. Из него построена и Белая мечеть, давшая название городу (ныне мечеть Кебир-Джами).
По сути дела, камнями взяли дань с мертвых. Живых, населявших древнее городище, татары как бы не замечали. Надеялись, что «греки» не выдержат столь тяжкого нравственного издевательства и уйдут к единоверцам в какое-нибудь горное захолустье и там растворятся без следа среди сельских татар, людей бесхитростных и дружелюбных? Выдержали! Чуть ли не до конца XVIII в. на разоренном и бесприютном плато вблизи Акмечети продолжало существовать селение, в котором жили люди из прошлого, чуждые всему, что их теперь окружало. Они покинули родное пепелище вместе с другими крымскими христианами, вместе с ними переселились на северное побережье Азовского моря. Последний раз они упомянуты в известном краеведческом издании о Симферополе:
«Неаполис пережил свою метрополию и другие, греческие города, и под именем Керменчика дожил до 1779 года, а в этом году вместе со всеми греками и митрополитом Игнатием жители Керменчика оставили город, где прожили не менее 2000 лет, переселились в Мариупольский уезд и образовали село того же названия — Керменчик.
О последних днях этих жителей татары передают, что это были люди трудолюбивые, честные, имели лавки, улицы, много воды на горе, но жили замкнуто от татар; уходя, забили источники каким-то составом и овечьей шерстью; были очень бедны и вместе с тем честны настолько, что вместо металлических денег употребляли камушки, образцы которых можно видеть в нашем музее«.
Элементарная логика заставляет думать, что название Керменчик (Крепостца) появилось после того, как это селение покинули жители, а крепость Неаполиса была разрушена. До слома она выглядела весьма внушительно; назвать ее крепостцой никому бы и в голову не пришло. С другой стороны, у населения не могло не быть дотатарского названия, вероятнее всего унаследованного от города, и нам… известного из «Географии» Птолемея, современника самого знаменитого скифского царя Скилура. Оно среди имен скифских городов, упомянутых как находящиеся в глубине Таврийского полуострова. Неаполиса в этом списке нет. Значит, в списке — подлинное название последней скифской столицы. Какое именно? От наспех обоснованного предположения лучше воздержаться, оставить право на ответ будущему дотошному исследователю.
Когда пришли татары, они, разумеется, спросили местных жителей об имени их селения. Как сказали жители, так стали называть и татары — древний, неписаный закон общения людей, говорящих на разных языках. А когда от грандиозной крепости мало что осталось, но оборонительный характер остатков еще не вызывал сомнения, точно также не могло не утвердиться мнение, что был там, на соседней горе, какой-то керменчик, крепостца, одна из многих, встречавшихся тогда чуть ли не у каждого крымского селения. Кто на них обращал внимание? Разве что охотник за бесплатным и добротным строительным камнем.
К сожалению, традицию средневековых халявщиков продолжили первопоселенцы Симферополя. Они тоже «добывали» камень для своих домов из тех же руин. Камня хватило и на их долю. Прочного, умело обработанного камня.
Еще поднимались над травой подножья некогда грозных башен, еще угадывались следы улиц и площадей, дворцов и храмов когда-то прекрасного города. И никто ни разу не задумался, кому он принадлежал, как назывался, какую роль играл в истории Крыма? Археологов на все российские древности набрать тогда было, конечно, негде. Но ведь испокон веков не переводятся коллекционеры, любители древностей! Или в Симферополе, так непросто рождавшемся, все недосуг было их завести? Со временем они завелись сами.
Прозрение началось именно с любителя древностей. Им оказался… татарин (ох уж эти парадоксы истории!), да не какой-нибудь, а один из потомков последних правителей Крымского ханства, исправник (начальник полиции) Симферопольского уезда А. И. Султан-Крым-Гирей. Летом 1827 г. именно он обратил внимание на мраморные плиты, лежавшие в повозке, которая спускалась с городища. Лицевую поверхность одной из плит занимал барельеф конного воина в неведомом архаичном облачении. Две другие плиты притягивали взгляд строгой красотой древнегреческих надписей.
Исправник купил плиты у татарина-возницы и отправил в Одесский музей древностей. Там заинтересовались находкой, прежде всего — надписью, упоминавшей имя легендарного царя Скилура. В то же лето на городище под Симферополем работала одесская археологическая экспедиция. Среди немалого числа ее находок самая ценная — второй мраморный барельеф, погрудный портрет двух мужчин, пожилого и юного, почти мальчика. Принято считать, что на барельефе увековечены Скилур и его сын Палак.
Проанализировав результаты раскопок, руководитель экспедиции археологов И. П. Бларамберг (он же директор Одесского музея древностей) первым высказал догадку, ставшую научной сенсацией, подтверждаемую всеми последующими раскопками: найден Неаполис, загадочно исчезнувшая столица позднескифского государства, довольно крупного для своего времени. Оно занимало Таврический полуостров (без Керченского, принадлежащего Боспорскому царству) и прилегающие к нему с севера степи, до самого Борисфена (Днепра). Жило скифское государство, как обычно бывает, дольше столицы, по крайней мере с IV в. до н. э. по IV в. н. э.
Гипотеза Бларамберга принесла городищу под Симферополем всероссийскую, а затем и мировую славу. Взглянуть на руины скифской столицы спешат ведущие историки Петербурга, Москвы, Киева, Берлина, Парижа… До сознания симферопольцев тоже доходит, что с их юным городом соседствует археологический памятник мировой значимости. Сам собой завелся обычай показывать городище гостям, просто приезжим. Вот как появляется опыт самодеятельных экскурсий. Вскоре гости уже сами просили показать им Неаполис. Едва ли не первым из выдающихся людей своего времени, кто проявил не профессиональный, археологический интерес к руинам скифской столицы, а чисто человеческий интерес к прошлому, был великий критик и демократ В. Г. Белинский. Он посетил городище в сентябре 1846 г.
Бурные события начала XX века, порожденные тревогой за будущее России, заставили напрочь забыть о прошлом, в том числе о бывшей скифской столице. Это естественно. Но сделать забвение государственной политикой, не вспоминать об уникальном археологическом памятнике в 1926 году, редкостно для нашей истории благополучном и спокойном, поставить очистные сооружения на земле, которая хранила ответы на самые мучительные для нас вопросы, — что может быть противоестественнее!
Понадобилось четыре года страшной, кровопролитной войны, чтобы пробудить наше историческое самосознание, чтобы каждый из нас задумался: где начало дороги, которую мы изо дня в день прокладываем в неведомую даль? Верно ли взятое направление? Этого не понять без прошлого. И в самом элементарном случае, когда, например, надо провести прямую линию на местности, мы исходим из «прошлого»: очередной отрезок линии выверяем не с последнего пикета, а с предпоследнего.
Применительно к нашей истории, к ее скифскому периоду, ту же закономерность четко сформулировал великий ученый и мыслитель М. В. Ломоносов. Не по наитию, а на основе анализа источников, до нас не дошедших, он высказал полную уверенность в том, что историю нашего Отечества нельзя понять без «древних родоначальников нынешнего российского народа, в котором скифы не последнюю часть составляют». Под Отечеством он подразумевал Российскую империю, под российским народом — славянское триединство: русских, украинцев, белорусов.
В августе 1945 года на Неаполь-Скифский прибыла из Москвы Тавро-скифская археологическая экспедиция. Организовали ее Институт истории материальной культуры им. Н. Я. Марра АН СССР и Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
В состав экспедиции вошли лучшие археолога Ленинграда, Москвы, Симферополя.
Между тем на Дальнем Востоке разворачивалась война с Японией, последней уцелевшей союзницей разгромленной Германии. В Симферополе чуть ли не на каждом шагу взгляд натыкался на тягостные следы немецко-фашистской оккупации, на руины зданий, разрушенных в ходе недавних боев за освобождение города. Время ли тратить деньги на раскопки? Тогда преобладающим был бы скорее всего ответ отрицательный. Сегодня очевидна правота тех, кто ответил бы утвердительно. Остается сожалеть, что вдруг возобладала «экономия и бережливость», из-за чего интенсивные исследования городища заглохли, не успев продвинуться настолько, чтобы извлечь из прошлого хотя бы самые необходимые уроки. Тогда мы наверняка смогли бы если не предотвратить постигшую нас катастрофу (экономическую? политическую?), то по крайней мере противостоять нежданной напасти. Мы до сих пор не понимаем даже ее природы.
И все-таки. Результаты многолетней (1945—1960 гг.) работы Тавро-скифской экспедиции иначе как триумфальными не назовешь. Ее открытия и находки решительно перечеркнули прежние, надуманные представления о скифах как о диких и безграмотных «вчерашних» кочевниках. Перед нами предстал народ сильный, талантливый, умный, способный выносить долгие и суровые испытания.
Позже, в период упоминавшегося всплеска общественного интереса к Неаполю-Скифскому, симферопольский архитектор Б. В. Кондрацкий увлекся изучением материалов раскопок городища, затем предпринял попытку (довольно удачную) воссоздать в серии рисунков архитектурный облик скифской столицы. Рисунки-реконструкции привели их автора к следующему выводу. «Неаполь в пору своего расцвета (II в. до н. э.) удивительно похож на Рим того же времени». Действительно, парадная площадь Неаполя на рисунках Кондрацкого напоминает римский Форум — колоннадой «здания с портиками», бронзовыми статуями, мраморными барельефами. Сходство не случайное. Им обнаруживается пристальное внимание скифов к главному сопернику и наиболее вероятному главному противнику. Правда, история рассудила иначе и в своей обычной манере: как никто не ожидал…
До сих пор основополагающими для суждений о любой из сторон жизни поздних скифов остаются материалы Тавро-скифской археологической экспедиции. Один царский мавзолей задал работы не менее чем пяти поколениям исследователей. В нем найдены тысячи предметов скифского обихода. Только золотых изделий — 1327.
Однако самой большой загадкой остается сам мавзолей, принятый почему-то не за царскую, а великосветскую, коллективную усыпальницу.
Скифская столица просуществовала не менее 600 лет. Срок достаточный для того, чтобы набралось изрядное количество царей; да еще их жен, близких родственников. Об их последнем пристанище ровно ничего не известно. Мавзолей изначально был предназначен для одного, конкретного человека, — Скилура, — личности, несомненно, выдающейся, и построен после смерти Скилура в каком-то из 80-х или 90-х годов 2 в. н. э. за те 40 дней, которые отведены скифским (а теперь и нашим) погребальным обычаем на прощание с покойником.
Расставаться со Скилуром не хотел никто. Поэтому решили, уже вопреки обычаям, оставить его среди живых. Символично, разумеется, оставить: похоронить на самом видном месте, у Центральных городских ворот.
Перед архитектором (а слово-то из тех времен, куда старше слова «зодчий»), автором проекта мавзолея, стояла непростая задача: не только уловить миг полной гармонии будущей гробницы со стеной и воротами, но и придать гробнице вид, вызывающий благоговение перед тем, кто в ней будет покоиться, напоминать о его великих свершениях. В то же время ансамбль гробницы с крепостью не должен содержать ни малейшего повода для нежелательных ассоциаций. Если построить гробницу возле ворот, используя традиционные контуры и масштабы, тут же родится ассоциация с собачьей будкой; взять максимально возможный масштаб — нарекут гробницу сторожкой.
Из мучительных дум родилось озарение, которое архитектор так любил, в безошибочность которого так верил. Он построит гробницу Скилура в виде остроконечного обелиска к западу от Центральных ворот. Гробница станет почти вплотную к стене и будет возвышаться над ней подобием скифского меча-акинака, символа вечной защиты города прахом Скилура.
На такой облик мавзолея намекают суженный кверху дверной проем и метровая толщина стен, от основания до трехметровой (до нас дошедшей) высоты. Стены явно рассчитаны на то, чтобы нести нечто большее, чем деревянное перекрытие и банальную черепичную крышу. Наиболее вероятная высота погребальной камеры — 6 метров. Выше было деревянное перекрытие, над ним — «технический этаж» из легкого кирпича-сырца. От почти храмовой высоты камеры возникало ощущение простора, хотя ее площадь скромна, около 40 кв. м.
Пол несколько заглублен в дневную поверхность (что, видимо, символизирует спуск посетителя в потусторонний мир) и покрыт слоем утрамбованной известняковой крошки. В северо-западном углу едва возвышается над полом тоже белое известняковое надгробие над грунтовой могилой Скилура. Могилу осеняет полог на четырех столбах — дань древним курганным традициям. Такая же дань — расположенное рядом захоронение лошадей и конюха. Остается место для посетителей и ритуальных приношений. Навещали царя не с пустыми руками.
Все ясно и понятно. Когда же в мавзолей впервые проникли археологи, им предстала жутковатая картина: погребальное помещение было до отказа набито останками людей в истлевших или полуистлевших гробах, а то и наспех завернутых в кошму или шкуру, чуть ли не в рогожку. Было над чем подумать археологам. Не успели. Захлестнула волна удачи: каждый день столько находок, уникальных, потрясающих воображение.
Между тем, первичная рабочая гипотеза о странном массовом захоронении в царском мавзолее отвердела до прочности предрассудка: так вот штабелем и хоронили (скифскую знать!) — ставили в ряд гроб за гробом, от стены до стены, на них — следующий ярус гробов. Всего 12 ярусов, более 70 покойников. Теперь совсем нетрудно определить высоту погребальной камеры.
Скифская «любовь к отеческим гробам» общеизвестна со времен похода на Скифию (514 г. до н. э.) персидского царя Дария. За могилы предков скифы всегда были готовы погибнуть, приняв заведомо проигрышный для них бой. И вдруг крайне бездушный прагматизм. Нет, поступить так скифов могла заставить только смертельная угроза, и не для одной столицы, для всей Скифии.
… Скифы понимали: беда неотвратима, хотя еще ничто, не намекает на ее приближение. Но скоро, очень скоро огромное готское войско вторгнется в пределы Скифии. (Сила столь же грозная и до сих пор столь же загадочная, как татаро-монгольское нашествие). Такую силу не остановить. Не надолго удержат ее и циклопические стены столицы. Едва начнется осада, во вражеском тылу окажутся склепы.
В них покоятся те, кто создавал и умножал так далеко шагнувшую славу Скифии; лежат знаменитые стратеги, творцы громких побед на полях сражений; философы, чьи мудрые изречения разойдутся по миру и будут звучать на разных языках тысячелетия после их кончины; врачи, высоко ценимые даже на родине Гиппократа; художники, которых знают в далеком Египте, не говоря уже о Риме и Пальмире. Враг приближается коварный и жестокий (такая перед ним бежит молва). Он не упустит возможности надругаться над святыми для скифов покойниками, причем, на глазах защитников осажденного города, чтобы спровоцировать их на безрассудные, губительные вылазки.
Трезвая оценка обстановки подсказала верное решение: всех, кто похоронен в склепах, до лучших времен тайно перенести в мавзолей. Сам же мавзолей застроить в привратную башню, которая станет к западу от Центральных ворот. Чтобы ее асимметричное расположение не наводило врага на опасные раздумья, скифские военные инженеры спроектировали вторую привратную башню, зеркальное отражение первой. Ее поставили с противоположной стороны въезда в Центральные ворота. Башню без всяких тайн.
Получилось убедительно, особенно со стороны противника: крепость, ожидающая штурма, усилила центр главной линии обороны мощным привратным укреплением, принеся в жертву своим богам царский мавзолей, перепрятав останки Скилура в более надежном месте. Легенду для «слухов» сочинили, конечно, не менее убедительную.
Скилура, надо полагать, действительно перезахоронили, а в мавзолей вместо него положили кого-то другого. Встраивали мавзолей в башню пустым, если не считать конюха и лошадей. У археологов «царские останки» с самого начала вызывали сомнения. Их не рассеяло, наоборот, усилило лицо погребенного, которое воссоздал по черепу, взятому из «могилы Скилура», знаменитый М. М. Герасимов. Лицо мужчины 35—40 лет. Скилур должен выглядеть гораздо старше.
Особо следует сказать о единственном в своем роде женском захоронении мавзолея — в роскошном деревянном саркофаге (другие женские останки найдены в мавзолее только в общих, «семейных» гробах).
Если вдуматься в сопутствующие саркофагу обстоятельства, нельзя не заподозрить, что о нем вспомнили в последний момент, когда «спецкоманда», закончив укладку «штабеля», готовилась замуровывать дверной проем. Саркофаг буквально воткнули в оставшийся свободный уголок. А принесли его из какого-то не очень надежного пристанища: кто-то успел засунуть руку под крышку и нащупать (точно знал?) наиболее «весомые» драгоценности. В мавзолее воровство исключалось тройным круглосуточным надзором: стражи самого мавзолея, стражи у ворот и на стене. Самое «просматриваемое» место в городе (потому и мавзолей там построили).
В мавзолее саркофагу тоже не повезло. На него рухнула груда сырцового кирпича вместе с частью перекрытия. Видимо, при первой, «татарской» выборке камня. Обломки саркофага покрылись толстым слоем пыли и почти полностью истлели.
В общем, говорить сегодня было бы не о чем, если бы не участник Тавро-скифской экспедиции О. И. Домбровский (в дальнейшем, вплоть до смерти в 1994 г. — ведущий археолог Крыма). По отпечаткам в слежавшейся пыли, уцелевшим «блесткам» краски и гипсовым отливкам пустот он реставрировал саркофаг. Получилось нечто диковинное, прежде невиданное, подлинное произведение искусства, созданное очень талантливым художником. В облике саркофага, в сплетении цветочных гирлянд, птичьих фигур, когтистых звериных лап художник запечатлел трагедию утраты. Саркофаг — это скульптура отчаяния, душераздирающий стон мужской любви, тяжело раненой смертью любимой женщины. Какая тайна похоронена в саркофаге, мы скорей всего никогда не узнаем. С полной уверенностью можно сказать только то, что женщина в саркофаге была гречанкой: прежде чем поставить саркофаг в мавзолей, кто-то положил под него бронзовую греческую монету — заблудшей душе на дорогу в мир теней собственных предков.
Саркофаг стал одной из самых интересных находок, сделанных за все время археологических поисков на городище. Вот что, кстати сказать, находят там, где, по представлениям неспециалистов, «ничего нет». Правда, решился на этот — без всякого преувеличения — научный подвиг один человек, Олег Иванович Домбровский.
… Как и предвидели скифские стратеги, осады город не избежал, бешеного натиска готской орды его циклопические стены не остановили; не миновала его горькая чаша гибельной, страшной развязки. Лишнее тому свидетельство — лежащие штабелем предки. Они остались в мавзолее навсегда. Спрятали их умело. Вся крепость срыта, а на секретное погребение никто не наткнулся. Главное, не надругался над святыней торжествующий враг. Значит, его победа не окончательная. Рано или поздно за ней последует возмездие. Тогда предки сами обнаружат себя, чтобы вернуться в склепы.
К 1945 году потомки успели забыть не только этот древний завет… Что касается склепов (их Тавро-скифская экспедиция открыла более сорока), то все они прошли в отчетах как «ограбленные в глубокой древности». Какие-то захоронения в склепах, конечно, обнаружены — то ли второстепенные, то ли послескифские. По ценности ритуального инвентаря они заметно уступают захоронениям в мавзолее.
… Едва готы покинули дымные руины поверженного города и продолжили тот же кровавый путь к вожделенному Риму, жители Неаполя (из тех, кто прятался в окрестных лесах) вернулись на мертвое пожарище с надеждой возродить его к жизни. Первым делом, как это было и будет после каждой войны они вырыли землянки, обнаруженные археологами в самых престижных кварталах бывшей столицы, где в благополучные времена землянки не могли появиться ни при каких обстоятельствах.
Из обломков довоенной жизни сложился убогий, повседневный быт. Его терпели, ожидая перемен к лучшему, к тому, о чем напоминали руины прекрасных зданий. С возвращением хозяев этих зданий связывались надежды на добрые перемены. Хозяева не возвращались. Как и основная масса жителей города. Куда они делись? Ходили слухи, что те и другие, как и большинство населения провинции, покинули полуостров и бежали на север, в Скифскую степь, к могилам предков.
С севера никаких вестей в поверженный Неаполь не доходило. Не могло дойти. Кто осмелится в одиночку или с небольшим отрядом пересечь южную, приморскую кромку Скифской степи (Великой равнины, как называли ее греки), где течет временами невидимая, но всегда ощутимая человеческая река, неутомимо гонит, как волну за волной, народ за народом, с востока на запад.
Больше всего вернувшихся удручало то, что город лишился своих великих мертвецов. Никто не знал, куда они делись. Но что их нет в склепах, было известно всем. В том числе готам. Пока они хозяйничали в городе, никакого интереса к склепам не проявляли. Во всяком случае, выцарапанных в настенных рисунках глаз, отбитых носов и рук у статуй, других столь же убого однообразных проявлений вандализма в склепах Неаполя археологи впоследствии не обнаружили.
Когда утрачены могилы предков, умирает историческая память. Следом гаснет надежда на лучшее будущее. Что дальше? То, что в Крыму повторяется издавна, через какие-то (длиною в столетия) промежутки времени: происходит объединение двух люто враждовавших между собой народов. На этот раз остаточное скифское население смешалось с греческим, растворилось в нем. Греки оказались духовно сильнее, поскольку не утратили связи ни с метрополией (Византией), ни со своим прошлым. Поэтому скифы стали греками, а не наоборот. Греками, с затаенной негреческой грустью в глазах.
Никто из этих людей не помнил причины своей грусти. Ее помнили склепы. Сами забытые, они упорно несли давние тайны в будущее. И сумели донести! Сумели многое напомнить забывчивым потомкам! Когда археологи стали открывать склепы один за другим, они и думать перестали об их бедном погребальном инвентаре, осознав, что перед ними нечто куда более ценное — уникальная коллекция интерьеров скифских зданий (дом живых всегда был образцом для дома мертвых).
Начальник сразу ставшей знаменитой Тавро-скифской археологической экспедиции П. Н. Шульц так излагает свои впечатления от осмотра двух только что открытых склепов или, по его терминологии, катакомб: «Катакомбы Неаполиса вводят нас в мир монументальной архитектуры и росписи поздних скифов. Обе катакомбы отличаются гармоничными пропорциями, красивым ритмом входных арок и ниш, жизненностью изображенных на стенах сцен битв, охоты и пляски, живописностью орнамента. Пластичный, живой и опрятный облик скифских катакомб чем-то напоминает внутренность украинских хат, сияющих белизной стен, радующих глаз росписью печей.
В катакомбах Неаполиса поражает разнообразие форм: ни одна из них не повторяет другую. В одной преобладает архитектурная обработка (катакомба с раковиной), в другой имеется наскальный рельеф (катакомба с конем), в некоторых из них доминирует роспись (катакомба № 2). Во всем этом чувствуется живое и свободное начало народного творчества«.
Открытие в склепах Неаполя-Скифского художественных росписей, констатирует тот же автор, «впервые знакомит нас с монументальной живописью поздних скифов и является одной из самых крупных удач экспедиции«.
Мы, наконец, увидели фрагменты мирной, более того, праздничной жизни скифов, в которой не лязгали мечи и не свистели стрелы, не кричали в предсмертных муках люди, не раздавалось хриплое ржание коней, взбесившихся от крови, брызжущей со всех сторон; в мирной жизни звенели струны сладкоголосой лиры, самозабвенно кружилась в танце молодая, стройная женщина, а кто-то, уединившись, играл в шахматы…
Праздничные сцены многое объясняли в скифских буднях, легко угадываемых по находкам предметов материальной культуры, упрощали решение масштабных и долговременных задач экспедиции, сформулированных в уже цитированной статье П. Н. Шульца:
«Тавро-скифская экспедиция была призвана исследовать памятники культуры скифов и тавров в Крыму для выяснения вопросов о развитии скифского государства, об уровне культуры поздних скифов, об их взаимосвязях с греками, римлянами и таврами и о роли скифов в формировании славянских народов и сложении их культуры и государственности» (с. 101).
Вначале исследования городища разворачивались в полном соответствии с этой программой. Потом они резко свернули в сторону. Крымский отдел археологии, порожденный широким общественным интересом к открытиям на Неаполе-Скифском, вдруг забыл своего родителя. Археологи отдела копали все, что угодно, только не скифов, тем более, не их столицу. Они уверяли себя, что любые раскопки — вклад в науку. Ой ли! Борьба мнений, закономерная и естественная в любой общественной науке, включая историю, неизбежно оборачивается пустой, амбициозной склокой, если борющимися забыты интересы общества, т. е. его потребности, ради удовлетворения которых любая наука только и существует. Какая наука получается из науки ради науки, более чем доходчиво демонстрирует нынешнее «вненаучное» положение Неаполя-Скифского.
Ведь дошло до того, что одно упоминание идеи М. В. Ломоносова о родстве скифов и славян расценивается как признак безнадежного ретроградства, носитель которого подлежит неослабной, систематической травле. Зато какие милые улыбки вызывает глупость, оброненная замечательным, глубокоуважаемым поэтом России А. Блоком: «Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосыми и жадными очами». Эти строки так часто и так охотно цитируют. Не от них ли берет начало сегодняшняя формула: «скифы — ирано-язычные племена»? В ней та же ассоциация с Востоком, тюрками. И не в стихах, а в прямо-таки математической прозе.
Между тем, достаточно открыть любой, даже краткий энциклопедический словарь, чтобы убедиться в обратном. Весь «причерноморский» период скифской истории, с VII в. до н. э. по III или IV вв. н. э., когда вместе с «крымской» Скифией погибла ее столица, и еще позже на территории современного Ирана обитали исключительно индоевропейские племена, в том числе… скифские.
С такой наукой нам никогда не разобраться в своей истории, никогда не понять, что нам уготовано в будущем. Начинается такое понимание, как мы успели убедиться, с ответов на «скифские» вопросы:
Почему все-таки каноническое изображение скифской богини между вздыбленными крылатыми конями обнаружено в одном из склепов Неаполя, — пожалуй, самый излюбленный сюжет вышивки русских, украинских и белорусских рушников вплоть до начала XX века?
Почему в языческом пантеоне древнего Киева одно из главных мест занимал скифский бог Хорос?
Почему никогда не упоминается наиболее вероятная версия происхождения слов «Русь», «русский», выдвинутая академиком В. В. Латышевым: росс, русь — вариации самоназвания группы таврских (затем, видимо, тавро-скифских) племен, древнейших индоевропейцев нашего полуострова. Трудно поверить, что пришедшее с юга чужое, случайное слово стало для киевлян своим, более того, обозначило название их государства — Киевская Русь. Среди киевлян южное слово обогатилось новыми вариациями «русичи», «русские», и двинулось на север к вятичам, не подозревавшим, что быть им отныне русскими; двинулось еще севернее, к новгородцам, которые не скоро смирились с переменой этнического имени, предпочитая по-прежнему называть себя ильменскими славянами.
Почему никого не волнует близость во времени двух исторических событий: гибели Неаполиса и основания Киева? Как они похожи на причину и следствие!
И еще вопрос на засыпку. Почему крымские археологи дружно молчат о том, что в Крыму есть памятники черняховской культуры, переходной от скифской к древнерусской? Во имя чистой науки?
Участие скифов в формировании полян, древнерусского населения Приднепровья, колыбели Киевской Руси, доказал на основе анализа археологического материала, собранного многими экспедициями, русский ученый, один из крупнейших историков нашего времени В. В. Седов. Жаль, что его популярная брошюра о ранней истории славян, изданная в Киеве, в Крыму так и не появилась.
В Крыму той же проблемой занимался московский археолог Э. А. Сымонович. Он копал кладбище простых жителей Неаполя-Скифского, проводил краниологические исследования: изучал черепа — фиксировал вариации их форм и размеров, соотношения их частей. Полностью раскопав кладбище, он завершил исследования в 1958 г., а полученные результаты опубликовал только в 1983 г. Тоже случайность? И его монография «Население столицы позднескифского царства (по материалам восточного могильника Неаполя-Скифского)» выпущена в свет киевским издательством «Наукова думка». Окончательный вывод автора монографии таков:
«Сопоставление краниологических серий из Неаполя-Скифского с сериями таких хронологически близких могильников Нижнего Приднепровья, как Золотая Балка и Николаевка-Казацкое дает основание относить людей, оставивших все эти памятники, к одной этнической группе.
Особенности антропологических материалов Неаполя-Скифского так же, как и других серий безкурганных могильников Низового Днепра показывают, что поздние скифы принимали непосредственное участие в формировании населения черняховской культуры и должны учитываться как одно из ее слагаемых.
Имеются основания говорить также об участии их в этногенезе славянского населения, о чем свидетельствует их морфологическая близость к некоторым группам полян» (с. 119).
Из всего сказанного в этой брошюре сам собой вытекает вывод: нам есть что защищать в прошлом, есть за что бороться. И надо бороться, чтобы не утратить права на будущее.
Кажется, остались некоторые сомнения насчет музея и экскурсий на «пустом месте». Найдутся ли экспонаты, привлекательные для посетителей? Ведь все золото Неаполя, чудом ускользнувшее от грабителей, находится в Москве и Киеве, а погребальный инвентарь был в могилах, известных и доступных каждому, кого они интересовали. Что там могло уцелеть, кроме черепков! Представьте себе, уцелело многое, в том числе ценное, эффектное. В качестве примера — две цитаты из популярной брошюры О. А. Махневой, опубликованной в 1968 г. под таким же заголовком, как и та, что лежит перед вами.
«Интересен земляной склеп (I —II вв. н. э.), в котором найдено более 30 изделий из египетской пасты. Склеп был ограблен в древности. Несмотря на это, в нем найдено 169 всевозможных предметов: золотые наглазники и листочки от диадемы, железный меч, глиняные сосуды, бронзовые браслеты всевозможных форм, кольца, перстни, пряжки, колокольчики, застежки, бронзовые зеркала, множество разнообразных бус, среди которых выделяется большая хрустальная буса в форме цветка и пронизь с рельефным изображением всадника на коне.
Большую ценность представляют египетские изделия из цветной пасты, например, голубая подвеска, изображающая египетского бога Бэса. Найдены и другие египетские вещи: пронизи в виде лежащих львов, лягушки и черепахи, биноклевидные подвески, подвески в форме виноградных гроздьев, изображение кулачка-кукиша. Кроме того, найдено 25 жуков-скарабеев, тоже из египетской пасты — голубой, желтой и сиреневой. На многих из них изображен египетский иероглиф в виде змеи — знака жизни» (с. 26, 28).
Еще один вопрос — из тех, что не волнуют исследователей. Как объяснить столь очевидное скифское тяготение к Египту, в скифские времена полностью утратившему политическую самостоятельность; тяготение к египетской культуре, несомненно, большее, чем к любой другой, даже греческой?
Образцы высокого искусства найдены и в захоронениях простых жителей исчезнувшего города. Образцы все-таки греческие.
«В одной детской могиле была обнаружена уникальная для Неаполя небольшая плоскодонная амфора с двумя витыми ручками, с рельефным изображением Гермеса и Эрота в обрамлении листьев и плодов винограда» (там же, с. 26).
Созерцание красоты, возвращенной из небытия, прибавляет душевных сил, не дает угаснуть надежде на то, что древнее городище все-таки возродится как самый яркий, самый популярный экскурсионный объект Симферополя. Время от времени, словно подбадривая приунывших, Неаполь-Скифский радует нас новыми, поразительными находками. Пока готовая рукопись этой книги терпеливо ждала свидания с типографией, на Неаполе состоялось еще одно сенсационное открытие. Им отмечен полевой археологический сезон 1999 года.
Научный сотрудник Крымского филиала института археологии АН Украины, кандидат исторических наук Ю. П. Зайцев проводил со своими помощниками раскопки перед «зданием с портиками», на территории, которую в 1827 году исследовала экспедиция Бларамберга. Теперь, 172 года спустя, было решено проверить, не пропущен ли давними коллегами-предшественниками какой-нибудь клочок земли: бровка между раскопами, наезженная дорога времен тех, первых, раскопок, что-то еще, столь же непривлекательное для археологов?
— Ничего существенного от наших раскопок мы не ждали, — рассказывает Юрий Павлович Зайцев, — тем более что очень скоро выяснилось: экспедиция Бларамберга сработала аккуратно и добросовестно. На нашу долю не осталось практически ничего. Однако «под занавес», как это часто бывает, возникла идея покопаться вокруг вырубки в скальном грунте, обнаруженной в 1950 году неподалеку от западного портика упомянутого «здания». Считалось, что это культовый бассейн, подобный тому, что находится возле «южного дворца Скилура».
Вырубку открывшие ее археологи, естественно, расчистили до дна, а почву по краям оставили нетронутой. У одного края вырубки сразу обратил на себя внимание травянистый бугорок. Сняли дерн. Под ним обнаружилась компактная груда камней.
Специалисту-археологу достаточно было одного взгляда, чтобы понять: перед ним не просто куски известняка, а фрагменты какого-то декора со следами краски, художественной обработки камня и с врезными буквами. Всего 200 фрагментов, которые сложились в рельеф всадника с копьем, а буквы (их набралось 170) — в стихотворную эпитафию на греческом языке из восьми, к сожалению не полных, строк. Уверенно читается лишь первая строка: «Гробница великого Аргота, повелителя Скифии».
Пробелы в следующих строках не позволяют однозначно трактовать общий смысл эпитафии. Требуется серьезное исследование текста учеными-языковедами. Пока добавить к сказанному можно только то, что дальше в эпитафии упоминаются эллины и фракийцы.
Такая вот история, — заключил Юрий Павлович. — Культовый бассейн оказался гробницей предшественника знаменитого царя Скилура, возможно, его отца.
… Пора подумать об экскурсиях по городищу, где «ничего нет». Подспорьем для организаторов первых таких экскурсий послужит, как надеется автор этой книги, следующая, третья глава.
И жизнь развеялась как дым?
Многое в облике Неаполя предопределено изначальным столичным статусом. Основанный в III в. до н. э. не просто в центре Таврики, а на пересечении всех торговых путей полуострова, он связал в единое целое скифские города и поселения, сразу став для них средоточием экономической, политической и культурной жизни, их представителем на международной арене.
Всегда и везде столицы играют негласную роль хранителей государственных запасов золота и других не менее привлекательных вещей. Поэтому всегда и везде столицы вызывают, дипломатично говоря, нездоровый интерес соседей. Еще более выигрышно брать в первую очередь столицу с военно-политической точки зрения. Обстоятельства и в III в. до н.э. общеизвестные. Скифы их тоже учитывали. Новую столицу (взамен утерянной северопричерноморской) они сразу строили как мощную, надежную крепость.
Строили, уважительно принимая подсказки природы, на небольшом плато (всего в 20 гектаров), на плоской вершине скального мыса, предвидя новый город как бы парящим над речной (ныне Салгирской) долиной, поднятым на высоту птичьего полета эффектным скальным обрывом (ныне Петровские скалы). Эта северо-восточная сторона плато ни в каких оборонительных укреплениях не нуждалась. Единственное, что требовалось как тогда, так и сегодня, обнести край обрыва предохранительной стенкой-парапетом, чтобы никто, прежде всего из детей, не свалился ненароком в пропасть. Тогда парапет сделали, а сегодня все недосуг, или (новая песня) «нет денег». Сегодня ничто не мешает Петровским скалам собирать почти ежегодную, жуткую дань.
С противоположной, западной стороны плато отделено от известнякового массива, на котором стоит теперь Симферополь, узким и глубоким ущельем, последние сто лет именуемым Петровской балкой. Через ущелье стенобитное орудие не перетащишь. Если такое даже случится, на крутизне противоположного борта ущелья его не поставишь. Не будет толка, если ухитришься поставить. Оно там не удержится, от своих же ударов в стену покатится вниз. В общем, сторона не для массированных, решительных действий противника. Разве что для его отвлекающих вылазок, от которых вполне защитит добротная каменная стена высотой в 4 метра, с амбразурами и парой-другой полубашен.
Никаких естественных преград нет лишь с южной стороны плато. Возвели искусственную, перегородили плато—от обрыва до ущелья — зубчатой стеной двухметровой толщины (доведенной впоследствии до 12—14 м.) и высотой до четырех метров (вскоре достроенной до 8 метров). Стена перемежалась шестью башнями высотой (окончательной) 12—14 метров, отстоящих друг от друга на 40 — 50 метров, на убойный полет стрелы.
Облик и масштабы южной оборонительной стены обнаруживают замысел ее творцов: максимально использовать оборонительные возможности территории, выбранной под застройку, добиться полной гармонии, лучше сказать, равновесия между искусственными и природными компонентами всего крепостного ансамбля. Поставленная задача, как мы говорим, успешно претворена в жизнь. А мы получили первое свидетельство трудов и раздумий архитекторов глубокой древности.
Для прохода и проезда южная оборонительная стена имела трое ворот: Западные, Центральные и Восточные. Основная масса жителей города — служилая публика средней руки — пользовалась Западными и Восточными воротами. Центральные считались парадными, триумфальными. Пользовались ими царь со свитой, высшая знать, официальные и торговые гости столицы. В них входили войска, когда возвращались с победой.
… Довольно далеко от Центральных ворот встречал и сопровождал гостей (в том числе нашего посланника в прошлое, воображаемого путника) шумный и деловой пригород — замысловатый клубок узких, кривых улиц и широких прогалин для торга в урочные дни скотом, сеном, мясом, а где-то и рабами; неказистых домишек обедневших, жмущихся к городу сельских общинников и роскошных усадеб новой, на рынках разбогатевшей знати; на каждом шагу — склады, конюшни, харчевни. Больше всего ремесленных мастерских: гончарных, шорных, бронных… Все они работают на рынок. Вот он, шумит и клубится на фоне южной крепостной стены. Разноцветье товаров, нарядные одежды покупателей, сверкающие украшения столичных модниц, суровый блеск оружия молодцеватых кавалеров сливаются в живой, фантастический букет.
«Любой рынок, в том числе скифский, издавна слывет народным праздником. Но есть в нем что-то народу враждебное. Со временем оно выступит наружу и рынок перестанет быть праздником. Когда это случится?»
Взгляд путника, словно в поисках ответа, скользнул влево, вправо, и задержался на странном сооружении, стоящем почти вплотную к крепостной стене. Массивный обелиск, сложенный из рваного камня, возвышающийся над стеной подобно скифскому акинаку, занесенному для сокрушительного удара. «Что это?» — в раздумье проговорил путник. «Мавзолей Скилура», — тотчас отозвался кто-то из прохожих.
Необычное здание завораживало. Путник не мог отвести от него взгляда, пока не прошел мимо и не уперся в мерцающее железной оковкой дубовое полотно Центральных ворот.
Краткие, обязательные формальности. Все в порядке. Загремели засовы, расступилась, бряцая оружием, стража и перед нашим чужеземцем возникла просторная, ослепительно белая площадь. Белая от невиданного прежде покрытия — слоя утрамбованной известняковой крошки. Противоположную, северную сторону площади замыкала постройка («здание с портиками»), столь же оригинальная, как и мавзолей, неуловимо созвучная с южной оборонительной стеной. Такой архитектурный ансамбль наш путник, объездивший полмира, тоже видел впервые: два портика (восточный и западный) на высоких платформах-подиумах, под нарядными фронтонами и двускатными крышами из красной черепицы. Выразительность фасадов каждого из портиков усиливали шесть квадратных колонн с дорическими капителями. Между колоннами гордо высились бронзовые и мраморные статуи римских и греческих богов.
Многоопытному человеку догадаться не трудно: это храмы, римский и греческий; в них гости из великой мировой империи, наиболее частые в скифской столице (очень уж их интересовала таврическая пшеница), возносили благодарственные молитвы своим богам за покровительство на столь долгом и опасном пути, за выгодную сделку, обращали к богам просьбы уберечь от бед при возвращении на родину.
Прежде чем войти в храм для такой же благодарственной молитвы, путник задержался у стены, которая и объединяла храмы-портики в общий ансамбль. Стена представляла собой нечто вроде доски почета, напоминавшей гостям о тех, кем Скифия гордилась, кто составлял ее мировую славу. Лицевую плоскость стены занимали мраморные барельефы царей, военачальников, мыслителей, врачей, художников, олимпийских чемпионов… До нас дошел всего один барельеф — погрудный, сдвоенный портрет царя Скилура и его сына Палака.
… Когда путник, отдав должное богам, вышел из храма, он еще раз окинул взглядом белую площадь. С востока ее завершала бронзовая конная статуя того же Скилура, вознесенная на мраморный пьедестал. Царь-воитель как бы обозначил правый фланг построения войска и призывает к оружию верную гвардию из восточных кварталов. Там, судя по довольно скромному характеру застройки, жили профессиональные военные. В мирное время они занимались ремеслами, близкими военному делу: ковали оружие, доспехи, выращивали коней, торговали. В общем, тем же, чем занимались московские стрельцы полторы тысячи лет спустя.
С западной стороны к площади примыкали дома скифской аристократии, чаще всего мегароны — греческий тип постройки, распространенной даже в привередливой «столице мира», как всюду величают Рим. «Похоже, что и скифам мегароны пришлись по душе. В котором из них меня ждут?» — чужеземец разглядывал один дом за другим, пытаясь найти в их облике заученные отличительные черты. Нашел! «Его дом» стоял прямо перед ним. Тоже мегарон («здание с полуподвалом»). Внешний облик дома говорил о достатке и благополучии живущей в нем семьи, об удачливости хозяина. Это, конечно, он вышел на порог, пристально вглядывается в приближающегося незнакомца, тоже что-то сопоставляет и тоже удачно. Лицо хозяина осветилось улыбкой.
Ближе к вечеру отдохнувший и посвежевший путник сидел в кругу приветливой семьи (в буквальном смысле в кругу), возле очага-костра в центре громадного зала. Собственно, греческое слово «мегарон» и значит «большой зал».
Дым от костра поднимается к потолку и через овальный проем выходит наружу. Звенят стеклянные кубки, недавно вошедшие в моду. В них так празднично искрится вино! Так душисто жаркое из баранины, поданное на серебряных блюдах! Так трогательно примешивается к ароматам обильного угощения домашний запах подновленного в честь гостя глиняного пола, застеленного вокруг очага дорогими коврами. Так уютно и радостно у живого огня, среди таких милых, веселых людей!
Но меркнет свет в окнах, расположенных под самым потолком. В застекленных окнах. «Молодец хозяин, не поскупился!» Пересказаны и обсуждены все новости. Незаметно ушли музыканты, ибо никто уже не предлагает поразмяться в пляске. Служанка давно не приносит и не подкладывает в очаг дрова. Пламя в очаге тоже меркнет, отчего все привлекательней ряд лежанок вдоль боковой стены.
Незаметно для себя путник вернулся к утренним мыслям, хотя вспомнились они совсем по другому поводу. Хозяин дома скиф, а в жены взял гречанку. Потому и преуспел в торговле. Еще бы! Все греческие купцы его приятели. Но и сам он почти грек. Перестроил скифский, отцовский дом (от него-то и сохранился полуподвал) в греческий мегарон. Что происходит в его душе? Или у скифов нет своего пути, что заставляет их тяготеть то к грекам, то к римлянам? Или путь скифов гораздо длиннее и они просто чувствуют, что должны нести в будущее память о римлянах и греках? Нет, такого не может быть!
Путник устремил тревожный взгляд в густеющий сумрак, в котором таяли очертания зала, сливались воедино с необъятностью ночи, и вздрогнул от пронзившей его догадки. «Как это раньше не пришло мне в голову!» Мегарон — прямое продолжение традиций, чудом пробившихся к нам через невообразимую толщу времени; традиций, наверное, общечеловеческих, бездумно называемых пещерными. Разве не от того, пещерного времени, глухо упоминаемого в полузабытых легендах, унаследовал мегарон широкий входной проем без дверей?
В непогоду его завешивают шкурами. А объем зала, типичный для природных подземелий? А стены, окрашенные по штукатурке в «пещерные» цвета, красной и желтой охрой? Вдобавок, «закопченные» по низу сажевой краской. Орнамент на стенах — в том же пещерном стиле, резком и угловатом, слишком суровом для семейного жилища. Но через мегарон древние традиции приведут к архитектурным шедеврам, которые восхитят мир.
Путник облегченно, с наслаждением вздохнул, как будто откинул полог душной кибитки и погрузился в благоуханную, летнюю ночь. Уже спокойно подумал о скифах. Недавние кочевники, они привыкли к тесному жилью на колесах, отчего их дома так похожи на кибитки. Но идут они той же дорогой, что и греки, тоже бывшие кочевники…
На том бог сна Морфей оборвал эпические думы чужеземца, ибо тоже чтил древнюю истину: утро вечера мудренее.
За утренней трапезой гость обмолвился о том, что сегодня и завтра у него свободные дни. Он хотел бы посвятить их осмотру скифской столицы, где он впервые. Для него это вообще первый скифский город, который довелось увидеть. Был бы рад побывать и в необычайно живописных окрестностях столицы.
Не успел гость договорить, раздался восторженный возглас хозяйского сына, 15-летнего подростка:
— Я пойду с вами, покажу самое интересное!
Надо же, как побледнела мать. Понятно: единственное, позднее чадо, оберегаемое от всяких, чаще всего вымышленных, напастей. И отец туда же: смутился, замешкался, пытается найти веский аргумент против намерения сына. Не нашел, махнул рукой: «Ладно, идите. Возвращайтесь к обеду. Не опаздывайте».
Гость окинул нежданного «экскурсовода» внимательным взглядом. Удивительно красивый мальчик: по-гречески стройный и кудрявый (но светловолосый), по-скифски алогубый и синеглазый. Имя, гостю известное, тоже было скифское: Сикеонис. Хотя очень походило на греческое.
«Экскурсовод» и «экскурсант» вышли на улицу. Перед путником вновь возник храмовый ансамбль. Вчера он словно сиял радостью; сейчас, на фоне обескровленной, поблекшей зари выглядел зловеще, вызывал тревогу. «Недоброе пророчество, предупреждение богов?»
Первый луч солнца вырвался из-за черепичных крыш, вспыхнул золотым бликом на капители колонны. Первая улыбка наступающего дня. «Выходит, не пророчество, — успокоил себя путник, — пустое наваждение».
Только теперь он заметил, что с севера к ансамблю примыкает какое-то строение («длинное здание»). Его торцевую стену он принял вчера за ограду. Наверное что-то интересное, раз Сикеонис ведет прямо к нему.
Свернули за угол и оказались перед фасадом странного здания. Фасад был обращен на север, что особенно удивило путника. «Почему не на юг, к храмам, площади, к воротам, наконец? Есть же в этом какой-то смысл?» Сам фасад он посчитал излишне вычурным: замысловатые карнизы, рельефные изображения птиц, зверей и растений. (Нынешним симферопольцам столь пышный декор напомнил бы здание стоматологической поликлиники на ул. Пушкина).
— Похоже на административную службу храмов-портиков, — неуверенно произнес путник.
— Нет, — возразил Сикеонис, и бойко, словно записной отличник на уроке, отрапортовал: «Это приемная для иностранных гостей. Послезавтра — прием по торговым делам, что вы, конечно, знаете, как и то, что обязаны на нем присутствовать. Желаю дойти до третьего, восточного зала!»
— Что это значит?
— Удачную сделку! В третьем, последнем зале ее участники пьют вино, — глаза мальчика хитро сощурились. — Пьют по-скифски, неразбавленным, и откровенно, по-братски — из одной чаши. В другие дни здесь принимают иностранные делегации, послов и просто чужеземцев, приезжающих в Скифию по всяким личным делам. Здесь получают разрешение пройти в приемную самого царя.
Двери всех залов были распахнуты для проветривания после утренней уборки. Прислуга отсутствовала. Путник приблизился к средней двери и заглянул внутрь, ожидая увидеть прихожую или коридор, что не считалось предосудительным, а увидел просторный зал, освещенный первыми яркими лучами солнца. Никаких прихожих и коридоров.
Досадуя на свою оплошность, которая поставила его в неловкое положение, путник взглянул на Сикеониса и еще более огорчился, прочитав в его глазах подозрение в соглядатайстве. Возникшую неловкость следовало загладить как можно скорее. В несколько мгновений путник прогнал перед мысленным взором все, что успел увидеть: дубовые скамьи вдоль боковых стен, в центре зала — низкий мраморный алтарь с бюстом то ли бога, то ли царя; «вот же! не обратил внимания», и слегка запнулся, подумав, что здесь не поймешь, кому кланяется входящий проситель, мраморному бюсту или председательствующему чиновнику, что восседает за ним в простенке между окнами на почти тронном стуле (мы поможем и подскажем из будущего: конечно, чиновнику); справа и слева от возвышения с монументальным пустующим пока стулом — секретарский и писарский столы; стену слева украшает орнамент, какого прежде ему не доводилось видеть; справа он успел заметить край живописной картины.
За этот край он и уцепился, задал «экскурсоводу» первый пришедший на ум вопрос: «Интересно, что там на картине изображено?» Еще не договорив, по улыбке Сикеониса заключил, что снова попал впросак. «Лучше бы спросил, как читается орнамент, наверное очень древний, а картину ведь и сам послезавтра увижу».
Мальчик улыбался не потому, что снова уличил своего подопечного в соглядатайстве. По неуклюжим маневрам гостя он догадался, что никакой он не соглядатай, а очень открытый и благожелательный человек. Поэтому на его вопрос ответил с подчеркнутой готовностью, выдал все, что знал об эпизоде, запечатленном на полотне: делегация греков из Ольвии преподносит богатые дары великому Скилуру, поздравляет его с юбилеем, — 50-летием.
Возникшая было отчужденность тут же растаяла, чему гость откровенно обрадовался. Понравилось ему и то, что Сикеонис с мальчишеской непосредственностью взял инициативу проведения «экскурсии» в собственные руки.
— Теперь взгляните на север, — важно произнес «экскурсовод» и поперхнулся от удивления («что за напасть? кто говорит моим голосом?»). Откашлявшись, в чем не было ни малейшей нужды, он продолжил в том же духе.
— За площадью для повозок и верховых лошадей нельзя не заметить самое крупное здание города, тоже мегарон. По привычке все называют его царским дворцом…
Уловив в своем голосе ту же фальшивую интонацию, «экскурсовод» растерянно замолчал. Пришло время улыбнуться «экскурсанту».
— Не вещай, Сикеонис, не с загробным миром беседуешь. Объясни толком, что это за дом.
— Был царский дворец, но Скилур его не любил, в конце концов бросил и перебрался с семьей в новый дворец, построенный на акрополе, подальше от торговой суеты, которая царя всегда раздражала. После смерти Скилура его сын Палак, нынешний царь, превратил это здание в мемориал отцу и его свершениям. Многое, конечно, переделано. Фасад у здания новый, римского образца, — со столбами, по-латински, с колоннами.
— С тех пор, — продолжал юный «экскурсовод», все более увлекаясь, — в этом здании вершатся поминальные тризны, каждая — в память одного из деяний знаменитого царя. Получается, через каждые б—7 дней. Много посетителей и в другие дни. Люди приходят, из дальних провинций приезжают помянуть человека, столько сделавшего для Скифии, преломить хлеб и выпить вина в его честь. Вон какая кухня тризны и гостей обслуживает. — Сикеонис махнул рукой в сторону двухэтажного, тоже внушительного, корпуса к востоку от дворца-мемориала.
Спохватившись, досадливо стукнул себя ладонью по лбу. — Главного я все еще не сказал: любой чужеземец, явившийся к нам с добрыми намерениями, вправе войти один раз в мемориал и совершить обряд возлияния в честь Скилура. Пойдемте! Вы впереди, я за вами.
Они пересекли площадь, поднялись по ступенькам к привходовой колоннаде. За ней из полумрака дверного проема выступила фигура — смотритель здания; он молча, кивком ответил на приветствие чужеземца, молча принял монету за обрядные услуги. Наш путник успел подумать, что смотритель глухонемой, когда тот вдруг широко улыбнулся, приметив за спиной раннего посетителя Сикеониса, несомненно ему знакомого, и подчеркнуто приветливо произнес: «Добро пожаловать! Входите, вас я сопровождать не буду».
Перед посетителями открылось даже не помещение, а само пространство — громадное, гулкое и тревожное. (Мы, чтобы защититься от столь сокрушительного впечатления и его смысла, воспользовались бы прозаическим сравнением: «вокзальный» или, еще лучше, «аэропортовский зал ожидания», где непременны такие же балконы-антресоли.) «Из-за антресолей, догадался путник, здесь не намного светлее, чем в прихожей. Зато для ночлега антресоли гораздо удобнее, чем «боковые места» в зале. Так всегда: что-то приобретая, обязательно что-то теряем».
Резкий отблеск пламени от очага в центре зала выхватил из полумрака властное лицо немолодой полной женщины. Путник успел вздрогнуть, прежде чем сообразил, что перед ним — статуя в нише западной стены.
«Дитагойя — праматерь рода, который дал нам Скилура», — вслух прочитал Сикеонис надпись на скифском языке, украшавшую постамент, и тут же повторил ее по-гречески.
Путник обернулся к очагу: «А не рановато его разожгли?» На что его юный друг не без лукавства ответил: «Это вечный огонь, тоже в честь Скилура.»
По другую сторону очага возвышался мраморный алтарь с тем же, на монетах примелькавшимся царственным профилем. Возле алтаря гости нашли все, что необходимо для обряда возлияния вина, и в полной тишине исполнили завет далеких предков, общих для скифов, греков и римлян. Затем еще раз обошли и осмотрели зал. Путник обратил внимание, что и здесь, как в приемной для иностранцев, левая от входа стена украшена орнаментом, правая — живописными полотнами, в которых отразилась вся «трудовая биография» героя мемориала. А орнамент? Какой в нем заключен смысл? Этот вопрос готов был сорваться с губ нашего «экскурсанта», когда тот заметил в северо-западном углу мегарона какую-то загородку и забыл об орнаменте:
— Там, как я думаю, оружие и другие любимые вещи Скилура?
Сикеонис не ответил. С непроницаемым видом «экскурсовод» направился к загородке и замер перед входом за нее. Заинтригованный путник тоже глянул через плечо мальчика в темный угол и встретился взглядом с мраморной богиней Кибелой, восседающей на мраморном троне. Жестокая и циничная Кибела, неизменно вызывавшая в его душе смятение. Он спрашивал себя: «Какие силы, — наверняка темные и злобные, — вознесли Кибелу над всеми прежними богами, даже в Риме?» И не находил ответа. Сейчас он не сомневался в том, что богиня читает его мысли, но не почувствовал раскаяния, наоборот, еще более оскорбился, осознав как сиротски, униженно выглядит рядом с Кибелой статуя старой доброй Деметры.
Он резко повернулся и зашагал к выходу. Заметив, что Сикеонис не отстал и совсем рядом, раздраженно бросил в его сторону:
— От самого Скилура здесь хоть что-нибудь осталось?
Мальчик озадаченно поводил глазами по сторонам, на мгновение замер и радостно воскликнул:
— Осталось! Дерево и бассейн во дворе!
Воспрянувший духом «экскурсовод» тоже заторопился к выходу.
Путник вспомнил; когда они подходили к мемориалу, с его западной стороны он заметил раскидистую оливу, священное дерево многих народов. Северяне-скифы восприняли уважение к оливе от греков вместе с греческими богами и обычаями. Но эта олива обладала особыми свойствами (или росла на особом месте?). Вблизи нее путник испытал неведомые чувства: окружающий мир как будто растаял; вместе с ним исчезли все желания, кроме одного — безотрывно смотреть на ветви дерева, свисающие над небольшим и неглубоким бассейном, прозревая сквозь тонкий слой воды космическую бездну, погружаясь в нее своей сутью, все ближе к самым сокровенным тайнам бытия…
— Дерево посадил Скилур в день своей первой свадьбы, — подал голос «экскурсовод». — Всем детям, когда они впервые переступают порог школы, рассказывают об оливе Скилура, о том, что в трудную минуту царь приходил сюда, в этот уголок дворцового сада; он подолгу сидел у бассейна под оливой, слушал голоса богов, внимал их советам. Как пример обычно вспоминают разгром нашими войсками Керкинитиды — оплота Херсонеса на западном морском берегу. Крепость защищалась стойко, осада затягивалась. Надежда взять ее иссякала. Боги подсказали Скилуру, как поступить: стенобитные орудия, которые согласно с военной наукой расставляют там и сям, нащупывая слабое место обороны, сосредоточить у одной стены, любой, какая приглянется. Волю богов исполнили, поставили орудия в ряд, одно к одному. Осажденные ничего не успели предпринять. В считанные минуты затрещал и рухнул целый пролет стены, от башни до башни. Гарнизон Керкинитиды, подавленный невиданным зрелищем, тотчас сложил оружие.
Сколько ни вслушивался путник в шелест оливы, никаких голосов так и не услышал. Боги безмолвствовали. «Не хотят говорить с чужестранцем». Едва он это подумал, невидимая бездна опахнула его нестерпимым ужасом. Он собрал и напряг все душевные силы, чтобы не забыть: у него остается одно спасительное средство — уцепиться за самую простую житейскую мысль и ни на мгновение не терять ее из виду. Он уцепился за первое, что пришло в голову: «Откуда и как поступает в бассейн вода, как и куда уходит?» И пытался разгадать эту загадку до тех пор, пока в сознание не пробился будничный голос стоявшего поодаль Сикеониса:
— Пора идти в центр города, на акрополь. Иначе не успеем увидеть самое интересное, побывать в храмах. Отец сказал, что к обеду нам надо вернуться домой. Наваждение рассеялось. Путник облегченно и согласно кивнул:
— Отложим акрополь на другой раз. Лучше немного пройдемся по какой-нибудь улице, глянем, как живут простые скифы.
Улица встретила их за оградой и повела на северо-запад между двумя цепочками белых, опрятных домиков под красными черепичными крышами.
— Интересно, как устроено такое жилище внутри? — путник остановился у ворот одного из домиков. — Зайдем?
— А что мы скажем? — засомневался «экскурсовод».
— Ничего особенного. Скажем, очень захотелось пить.
Путник ободряюще подмигнул мальчику и постучал в ворота. Из привратной калитки выглянула молодая светловолосая женщина, благожелательно выслушала просьбу, изложенную на скифском языке «экскурсоводом» и, как того требовал новый скифский обычай, разрешила просящим помощи перешагнуть порог дома.
Войдя в жилище, путник испытал чувства, которые два тысячелетия спустя вновь испытает начальник знаменитой Тавро-скифской археологической экспедиции в только что открытом на Неаполе погребальном склепе. Всего одна комната, но как верно найдены ее пропорции! Она не кажется ни продолговатой, ни квадратной. Она уютна сама по себе. Ощущение уюта усиливает недавняя освежающая побелка, обновленная роспись стен: орнамент по всему периметру комнаты, вблизи потолка — стилизованное сочетание листьев и ягод кизила; на боковых стенах — еще более смелые «абстрактные» рисунки красных и желтых тюльпанов.
Украшение передней стены — войлочный ковер, с такой же яркой, созвучной стенам росписью, аппликацией из цветных тканей. Посредине ковра поблескивает медными накладками ножен старинный меч («похоже, дедовский»), рядом грустит о былом столь же архаичный ратный пояс из стальных пластин; современный лук и новый колчан со стрелами ждут своего часа на гвозде у правого края ковра.
В стене над ковром темнеет глубокая ниша. Она заставлена терракотовыми и бронзовыми статуэтками богов, конечно, скифских и греческих, но первый взгляд путника различил рогатую голову египетской Исиды, и долго не мог оторваться от стоявшей в правом, освещенном углу ниши изумительной греческой вазы, от изображенных на ней Гермеса и Эрота в обрамлении виноградных гроздей и листьев.
Вдоль боковых стен жилища располагались две низкие, глинобитные лежанки, застеленные кошмой потолще и попроще, чем ковер. Поверх кошмы — зеленые покрывала, стопки одеял, пирамидки подушек.
Блаженным покоем веет от чистого глиняного пола, застланного у порога пестрой дорожкой. Угол справа занимает очаг, тоже глинобитный, напоминающий камин. «Уменьшенная копия кочевого шатра», — такова ассоциация путника. Очаг тоже побелен, как и черепица, прикрывающая топку. Летом у комнатного очага каникулы, до зимних холодов.
Против очага, по другую сторону двери — окно, затянутое полупрозрачной, редкой тканью из белой шерсти. Стена между окном и дверью увешана медной посудой. На самом видном месте красуется большое серебряное блюдо. Еще одна фамильная реликвия? Угол слева занят горкой с дорогими изделиями из стекла и краснолаковой керамики — кубками, вазами, светильниками. Ниже — полка с ходовой посудой. Под окном — лавка, рядом с ней — низенький столик.
Тем временем (гораздо более коротким, чем пересказ увиденного «экскурсантом»), хозяйка сняла с полки и поставила на стол два медных ковшика, достала из-под лавки запотевший кувшин. Зажурчала струйка родниковой воды, отчего наши лукавые гости ощутили неподдельную жажду, нетерпеливо потянулись к ковшикам.
Через персонального переводчика путник поблагодарил женщину за необыкновенно вкусную воду и, как того требовал обычай, спросил о муже. В ответ услышал, что муж у нее военный, состоит в городской страже. «Сегодня ему повезло, — поделилась радостью счастливая жена, — дежурит на западной стене. Там всегда спокойно», — Она засмущалась, но договорила то, что пришло на ум: «Оттуда он меня и высмотрел».
Гость еще полюбовался росписями, на этот раз не исподтишка, почти демонстративно. Восхищенно произнес: «Талантливо! Автор, конечно, хозяйка?» Женщина зарделась, кивнула. Да, это ее творчество. Она любит рисовать. Впрочем, все хозяйки в городе украшают дома настенными росписями. Так принято. Рисуют ли мужчины? Многие! Не цветы, разумеется. В основном, сражения, охоту и тому подобные зверства. Отсюда их мастерство в изображении людей и зверей, главным образом лошадей. Отсюда их право расписывать общественные здания и гробницы. Среди мужчин немало любителей прикладного искусства — резьбы по дереву, чеканки по металлу, где без цветочков никак не обойтись!
Путник непроизвольно повернулся к выходу («пора, и честь знать»). За порогом стоял трехлетний малыш. Насупившись, он искоса поглядывал на чужих людей, не забывая ковырять пальчиком в носу. Нахлынувшая отцовская тоска подтолкнула путника к ребенку, заставила взъерошить детские льняные волосы, прохладные под жарким солнцем, а спохватившись, прикрыться шуткой и воскликнуть: «У хозяйки и домашний стражник есть, грозный какой»!
Дымок над летней кухонкой-землянкой в глубине двора напомнил о приближении обеда, об истекающем времени «экскурсии». Последний поклон хозяйке, ласковое «помаши ручкой» малышу, скрипнула и захлопнулась калитка.
Не сговариваясь, «экскурсанты» пошли по той же улице дальше.
… Сикеонис мурлыкал привязавшийся мотив, его подопечный размышлял об интерьере скифского жилища: «Почти копия кочевой кибитки, всего лишь убежище от непогоды. Жизнь скифов по-прежнему протекает под открытым небом. Но, как у всех народов, она непременно переместится под крышу. Перемены начнутся с очага, пребывающего пока на положении старого друга: жить не мешает, а в лихую годину непременно выручит. Очаг постарается вновь стать средоточием семейной жизни, символом семейного счастья и благополучия. Он уже стал таковым в мегароне. У скифов, кажется, будет иначе: появится вторая комната, кухня-столовая. Она не выпустит очаг из угла, заставит усовершенствоваться. Следом за кухней уйдет под общую крышу «насиженный» уголок у входа в жилище, где семья привыкла проводить летние вечера — ужинать, обсуждать новости и впечатления прожитого дня. Из уголка получится терраса. С укромной, тыльной стороны потянутся к жилищу и составят с ним одно целое хозяйственные постройки — кладовые, амбары, погреба, мастерские и т. д.
Вместе с жильем они обступят замкнутым прямоугольником остатки дворового пространства; получится внутренний дворик с бассейном для дождевой воды, декоративной зеленью для прохлады и цветами для аромата, более привлекательный, чем терраса.
По такому пути развивается жилищная застройка в сухих и жарких странах где так важна защита от солнца. В холодных и влажных странах важнее приблизить к жилью помещения для теплой и сытой зимовки скота. Там другой вариант развития оседлого быта. Позади дома образуется скотный двор, окруженный коровниками, конюшнями, сеновалами и т. д. Непременные принадлежности лицевой стороны дома — крыльцо и палисадник. Что это, заявка на террасу и зеленый дворик (лужайку, парк) в будущем или зашифрованная память о них из лучших времен, из более теплых стран?»
Не дождавшись ответа, путник вернулся к исходной точке размышлений: «Кибитка — праматерь жилого дома простых людей. А культовые сооружения, храмы? По логике вещей они тоже родом с кочевья, надо полагать, дети, походного шатра, где нет и быть не может семейного уюта, где остро ощутима грань между жизнью и смертью. У греков шатер трансформировался в базилику, египтяне сумели извлечь из него погребальную пирамиду, скифы (как говорят) на пути к шатровому храму.
Не завернуть ли все-таки к акрополю, чтобы хоть издали глянуть на сегодняшние скифские храмы? — прервал себя путник, прислушиваясь к возникшему тоскливому чувству-сигналу: упускаешь редкую возможность. Конечно, — согласился он, — первозданные постройки наивно выставляют напоказ и свое происхождение, и родственные связи. У шатра тоже есть предок: землянка. Хотелось бы понять, каким образом сохраняется память о ней. Кочевникам землянка ни к чему. О ней забыли на тысячи лет, и она исчезла. Но тотчас воскресла, едва «сыны степей» перешли на оседлый образ жизни. Когда бывшие кочевники научились строить добротные жилые дома, землянка опять скромно отступила в тень» .
(Добавим от себя, что в наше время десятилетиями не возникает нужды в землянках. Кажется, они напрочь забыты. Но вот пронесся опустошительный вихрь войны. Первыми обживают пепелища землянки.)
Ой, не проста родоначальница шатра, загадочнее пирамид! А первозданный храм?
— Как будто услышав вопрос, из-за домов выглянула зубчатая крепостная стена, подпиравшая высокую обзорную башню. «Акрополь», — догадался путник, хотя прежде не встречал ничего подобного. Он собрался было засомневаться, когда голос «экскурсовода» подтвердил догадку: «акрополь». Еще через минуту открылся вид на все сооружение. Суровые, первозданные контуры…
«У города свое, скифское сердце. Парадная площадь у Центральных ворот — всего лишь вывеска для иностранцев. Ну и хитрецы! Обязательно надо глянуть».
«Экскурсант» остановился на спуске с пригорка, обернулся к «экскурсоводу», намереваясь сообщить о возникшем желании. Его удивило восторженное выражение мальчишеского лица. Перехватив недоуменный взгляд чужестранца, мальчик воскликнул: «стадион!» Путник пожал плечами. Он не мог не видеть, что на просторном лугу под акрополем располагается стадион. Ничего особенного. Вслух дипломатично произнес:
— Стадион не хуже, чем в Афинах, — довольный собой, пришпорил любимого конька. — Изначально там, как наверное во всех городах мира, бурлило народное собрание, низвергало могучих владык, возносило на вершины власти своих избранников. Исподволь и повсеместно народные собрания исчезли. Вместо них безобидно шумят по вечерам стадионы (вставим, в нарушение всех условностей, свою, сегодняшнюю реплику: так же, как шумят они до сих пор). Через час, другой соберутся для разминки участники состязания…
— Не соберутся, — подхватил с той же интонацией «экскурсовод». — Никаких состязаний сегодня не будет. Стадион готовят к завтрашним поединкам лучших кулачных бойцов Скифии. Третий день они съезжаются в столицу из провинций. Кулачные забавы у нас в особой чести. Сами знаете, что среди мастеров кулачного боя, увенчанных олимпийскими лаврами, больше всего скифов. Завтра вам представится редкая возможность наблюдать все направления скифского, рукопашного искусства. Состязания непременно почтит своим присутствием царь Палак.
Роль эрудита в делах государственных заметно тяготила Сикеониса. Тряхнув головой, он отбросил эту роль, как душную маску, заговорил с трогательной откровенностью подростка:
— Через год у меня тоже будет право участвовать в состязаниях. Я уже научился дальше и точнее своих сверстников метать копье. Стану лауреатом дома, поеду в Олимпию…
«Какой ты еще мальчишка, сынок», — умиленно подумал путник, разглядывая окрестности. Впереди, левее стадиона и рощи ореховых деревьев, почти у края плато его взгляд задержала кучка странных, куполообразных домиков.
— Что это? — с бесцеремонностью взрослого оборвал он Сикеониса. Тот оскорблено умолк («и стадион ему не нужен, считает, что самое интересное в городе — жилища простых людей?»). В душе юного скифа заклубилась неприязнь к чужеземцу. Она росла, затопляя добрые впечатления уходящего дня, готовясь выплеснуться наружу глупой выходкой. Воспитанность взяла верх, осадила неприязнь, как ретивого коня.
— В домиках, которые завладели вашим вниманием, — не без ехидства подал голос «экскурсовод», — живут тавры. Они поселились на плато задолго до основания города. Последнее обстоятельство считают величайшей несправедливостью скифов по отношению к таврам, а посему не приемлют ни города, ни нововведений, исходящих от скифов. У них все тот же быт, что и 200 лет назад. Крыши, и те не как у людей, не из черепицы, а подобие купола или свода, сплетенного из толстой лозы и обмазанного глиной, как принято в сельском захолустье, во всяком случае не в столице.
— Тавры вообще странные люди, — «экскурсовод» заметно оживился («сел на любимого конька?»). — Они наши ближайшие, кровные родственники. Тут их греки чуть было совсем не истребили. В поисках спасения тавры бежали в горы. Греки добрались бы до них и в горах. На выручку таврам пришли скифы, шуганули греков так, что те едва успели зацепиться за морской берег. Выручили родственников из беды. И что же? Вместо благодарности одни упреки: «вы завоеватели, вы присвоили нашу землю». В то же время возвращаться на равнину тавры отказываются наотрез. Тавры, живущие на морском берегу, откровенно, нам назло, союзничают с греками, своими вчерашними заклятыми врагами.
— Похоже на то, — воспользовался путник затянувшейся паузой, — что мы должны сегодня же побывать в этом поселке, хотя бы мельком заглянуть в таврское жилище. Пожалуйста, Сикеонис! Так не хочется откладывать. Да, солнце приближается к полудню; если пойдем в селение, обедать твоим родителям придется без нас. Всю вину беру на себя.
— А таврам скажем, пришли водички попить. Мимо царского родника, который поит акрополь!
— Нет, скажем, что мы не скифы, хотим глянуть, как они живут. Разве это далеко от истины? Надеюсь, с таврского языка на греческий ты сумеешь перевести?
— Конечно. Язык же родственный, понятный для скифов без перевода.
— Тогда, вперед! Нас ждут первозданные своды и купола!
Будто набирая скорость, путник сбежал с пригорка и размашисто зашагал по улице, чем дальше, тем больше походившей на полевую дорогу. Сикеонис едва поспевал за гостем, удивляясь его невесть откуда взявшейся прыти.
Вдруг что-то случилось с окружающим миром. Трагическое, непоправимое, что заставило забыть обо всем, замереть на месте в поисках ответа на вопрос: что же случилось? Потускнело солнце? Или разверзлись земные недра? Нет, так же ярок солнечный свет, по-прежнему стоит красуется белый город. Тогда почему всюду мечутся и надрывно кричат его жители? Слов не разобрать, крики сливаются в общий тревожный гул, в котором сквозит отчаяние. Мимо проскакал всадник с хмурым, озабоченным лицом. Где-то за городом, над полуденным горизонтом возник столб черного дыма — запоздалое предупреждение о нагрянувшей беде.
— Дым главной сторожевой башни! — закричал Сикеонис. — Сигнал: «вводится всеобщее осадное положение». Значит, совсем близко враг, конечно, греки, херсонесцы. Ловко они воспользовались дорожной суетой накануне завтрашних состязаний! Подошли незаметно, не оставив нашим войскам времени на выход из крепости и боевое развертывание.
Юный «стратег» перевел дух и призвал свое «воинство» к решительным действиям: «Бежим к западной стене! Там скорей что-нибудь узнаем». Он первым сорвался с места и побежал в таком сумасшедшем темпе, что путнику оставалось заботиться об одном: как не потерять его из виду. Благо, бежать пришлось гораздо меньше, чем путник ожидал. Стена мелькнула над вершинами деревьев, под которые нырнули бегуны, и перегородила последний отрезок «беговой дистанции» — заглохший проселок между огородами.
На секунду Сикеонис замер у подножья преграды четырехметровой высоты, затем, как ящерица, стремительно и легко заскользил вверх по гладкой каменной плоскости. Не успел путник опомниться от изумления, а юный скиф уже стоял на стене и вглядывался в лесистые холмы на противоположной стороне ущелья. «Догадываюсь, где ты научился скалолазанию, — тихо проговорил путник. — Если бы твоя мать узнала о твоих прогулках по каменной крутизне, оберегающей город, она бы умерла от страха за твою жизнь».
С полубашни справа раздался предостерегающий окрик. Будто в ответ — резкий, тут же захлебнувшийся, свист стрелы. И тот же голос с полубашни, враз охрипший, рыкающий от боли. «Пронесло!» — облегченно подумал путник и устыдился бесчестной радости. Он уже открыл рот, чтобы громко и строго приказать шустрому юнцу: «Прыгай! Скорей!» Слова застряли в горле от ужаса: мальчик, недоуменно и жалобно оседая в коленях, клонился навзничь. Сейчас он упадет со стены. Путник бросился вперед. Ему не хватило мгновения, чтобы подхватить мальчика на руки. По-детски беспомощное тело ударилось о землю. Путник рухнул перед ним на колени.
Убитый мальчик
«Боги! — стонала его душа. — За что вы лишили меня разума и обесчестили? Я не мог не подумать о наиболее вероятном, о том, что вражеские лазутчики раньше войска перебрались через ущелье и наблюдают за крепостью из кустов; я не мог не различить, что одновременно пущены две стрелы».
Среди горестных раздумий путник лихорадочно пытался нащупать пульс, уловить какой-нибудь признак жизни. Тщетно. Тогда он решился заглянуть в жутко огромные на обескровленном лице васильковые глаза мальчика. Они равнодушно взирали на солнце, бесконечно далекие от всего, что было и происходило вокруг.
С грохотом раскололось небо. Посыпались осколки, которые тут же обернулись лавиной бородатых, свирепых воинов. Гулко, тяжело топая, сшибаясь доспехами и щитами, они бегут за спиной путника на юг, вдоль выступившей из-под стены узкой тени. Эта первая полоска ночи напомнила вчерашний вечер в кругу счастливой семьи, рассказ хозяина мегарона о скифском способе хранения хлебных запасов — в зерновых ямах, вырубленных в скальном грунте всюду, где нашлось место, даже вдоль крепостных стен. «Как все-таки умны, изобретательны скифы, — отрешенно думал путник. — Как просто они избавились от перекупщиков хлеба, от необходимости сбывать большую часть урожая по низким ценам. В зерновых ямах пшеницу можно хранить 50 лет. Заодно они избавились от опасности остаться в случае осады без продовольствия. Им никак не грозит голодная смерть».
Безнадежное слово «смерть» вернуло путника в действительность. Он поднялся, подхватил на руки отяжелевшее мертвое тело, запрокинул голову, еще надеясь уловить какой-нибудь намек на благословение богов, и снова поник. Одеревеневшими губами с трудом произнес, почти прошептал: «Что теперь будет с твоими родителями, сынок? Что будет с нами?»
Сегодня, более чем две тысячи лет спустя, ответы на оба вопроса общеизвестны. Любой старшеклассник, не совсем сбитый с толку американскими кинобоевиками, догадается: только что он прочитал описание одного из эпизодов, так называемых Диофантовых войн — нападение на Неаполь херсонесцев в союзе с греками из Понтийского царства, занимавшего тогда азиатскую территорию нынешней Турции. В Диофантовых войнах, реванше греков за прежние поражения от скифов, Неаполь разделил судьбу всей Скифии. Не спасли его ни мощные стены, ни яростное сопротивление защитников. Город был взят штурмом, разграблен и сожжен.
В разгульном пиру победителей жизнь побежденного не стоит ни гроша. Вспомним, что знаменитый Архимед убит ворвавшимся в его дом победителем за одно неосторожное слово. Родители Сикеониса, сломленные горем, меньше всего думали о самосохранении. К тому же, их дом-мегарон стоял вблизи южной оборонительной стены, там, куда прежде всего обрушилась мстительная злоба победивших. О том же говорят археологические материалы: «здание с полуподвалом» подверглось беспощадному разграблению, а затем уничтожено сильным пожаром. Умышленным, подготовленным пожаром. В самом мегароне гореть в общем-то нечему.
Нет, не могли хозяева мегарона уцелеть. То же самое придется сказать обо всех людях, «повстречавшихся» на «экскурсионном маршруте». Впрочем, есть в нашем сюжете еще одно действующее лицо, ожидающее выхода на сцену. Это, разумеется, Она — юная девичья душа, любившая Сикеониса первой пылкой любовью, что для всех, включая возлюбленного, так и осталось тайной. Есть основания считать, что Она не погибла в военное лихолетье; на ее долю выпала череда спокойных, благополучных лет, а на закате дней, когда уже вынесен самый справедливый и самый безжалостный — собственный приговор собственной жизни («вот что в ней было ценного, чистого; остальное смешано с грязью и обречено в жертву забвению»), Она посетила храм бога огня, в чьей власти на глазах превращать тленное в прах.
… Бледные губы старой женщины шепчут молитву, по морщинистому лицу текут слезы, дрожащие пальцы нервно теребят глиняный черепок, на котором процарапано заветное имя. Пальцы не в силах расстаться с крохотным осколком далекого и дорогого прошлого. Он сам вырывается из рук и падает в священное пламя.
… Более чем две тысячи лет спустя археологи раскопали один из зольников Неаполя-Скифского — внушительный курган из того, что веками выбрасывалось из храмовых и домашних очагов, печей ремесленников; из того, что уцелело в огне и потому считалось у скифов священным. В груде «немых», кухонных черепков внимание археологов привлек один, с процарапанными на нем буквами. Когда черепок очистили, буквы сложились в имя: «Сикеонис».
Не развеялось то, что не сбылось
Неаполь превозмог тяжелые последствия Диофантовых войн — поднялся из руин, залечил раны. Однако что-то в нем осталось надломленным. Столица как будто утратила интерес к будущему. Как и Скифия, и мир в целом, который по неведомой причине вдруг потерял точку опоры и катился в бездну, порождая в смятенных умах одну и ту же тоскливую мысль: «конец света». Как еще объяснить, почему один за другим исчезают народы, исчезают целые страны. Почему греки, одолевшие скифов, утратили независимость. Более того, их метрополия со всеми колониями и побочными царствами-государствами низведена до положения захолустной провинции Римской империи. Последнее обстоятельство породило еще один взгляд на будущее: «весь мир станет Римской империей, а все люди — римлянами».
Все мнения сходились в одном: впереди большие, гибельные перемены, которых обреченно ждали, пугаясь всего, что казалось намеком на их приближение. Перемены не спешили заявлять о себе, они словно потешались над людским страхом, и внезапно нагрянули, когда их перестали ждать. Через 400 лет после Диофантовых войн в пределы Скифии вторглись готы, сила прежде неведомая, неодолимая. Как тут не догадаться, что Римской империи тоже скоро не будет, что вот-вот рухнет прежний мир и родится новый, как всегда, в крови и муках.
Так и было. На развалинах античной цивилизации возник и существует до сих пор новый мир. В нем нет ни египтян, ни римлян, ни скифов. Куда они делись? Вымерли? Поголовно истреблены? Нет и нет. Римляне, например, сыграли роль катализатора при формировании новых народов Западной Европы из римского, до-римского и пришлого населения. Народов, до сих пор именуемых романскими, т.е. римскими, не очень близкой по крови родни, тем не менее, прямых наследников римской культуры языка, территории — всего достояния, от материального до генетического.
Насчет романских народов давно достигнута полная ясность. Их родство с римлянами общепризнано. Никому в голову не приходит это родство оспаривать. В Восточной Европе шел тот же процесс формирования новых народов, но на другой, скифской основе и, как правило, из народов близкородственных. Иными словами, с большей, чем на Западе определенностью. Откуда же взялась удручающая неопределенность в отношении ранней истории современных народов Восточной Европы? Кто запретил называть их скифскими народами даже в научном обиходе? Их называют славянскими народами.
Называют-то правильно. Тем коварнее историческая подтасовка: скрыто не общее имя новых, родственных народов Восточной Европы, а подлинное имя скифов. Ибо «скифы» — всего лишь кличка. Так окрестили своих северных соседей древние греки (мы по тому же принципу окрестили дойчей немцами). Самоназвание скифов — сколоты. В нем исток нынешнего этнического термина «славяне». Разница в том, что наша кличка «немцы» в истории дойчей ничего не затемняет; греческая кличка «скифы», принятая мировой исторической наукой как единственный термин для обозначения великого народа древности, превращает в непроницаемую тайну нашу раннюю историю, исподволь воспитывает в каждом из нас легкомысленное отношение к собственному прошлому.
Кому это нужно? Меньше всего грекам, авторам иронической клички. После Диофантовых войн греческие и скифские интересы больше серьезно не сталкивались. На рубеже нашей эры старая кличка понадобилась действующим лицам очередной исторической драмы. Нарастал первый всемирный экономический кризис. Вызвала его первая на Земле глобальная экологическая катастрофа, порожденная человеком, тюркским кочевником, закосневшим в своих привычках, далеким от мыслей о том, что у природных ресурсов есть предел, переступать который смертельно опасно. Переступал, бездумно увеличивая и умножая стада скота. Природа Центральной Азии не выдержала, некогда тучные пастбища на глазах превращались в бескрайние пустыни. От бескормицы ежегодно гибли тысячи голов скота, почти каждую весну по становищам бродила голодная смерть.
Как спастись от » неведомой» беды? У кочевого опыта был один ответ: бросить умирающую родину и двинуться на поиски других, с точки зрения кочевника, непочатых земель. Общая беда сбила людей в огромные, разношерстные стаи, и как зверей, бегущих из горящего леса, погнала на запад, где по их сведениям было много травы и воды.
Правда, на первом этапе бегство людей от пустыни (высокопарно именуемое «великим переселением народов») скорее походило на геологический процесс, текущий исподволь, незаметно для глаза, изредка напоминая о себе внезапным катаклизмом. Десятилетия тратили кочевники-тюрки на то, чтобы освоиться на новом месте, вырасти численно и накопить достаточно сил для очередного броска на Запад, к еще большему изобилию.
На занятых территориях, как правило, обнаруживалось местное, тоже кочевое население. По праву сильного пришельцы вытесняли аборигенов, оставляя им одну дорогу — на запад. Разборки между пришлыми и местными кочевниками походили сначала на рыцарские, молодецкие состязания. Характер ожесточенных, кровавых сражений они примут позже, когда пришельцы столкнутся с оседлым населением. Тогда гибель травы в Центральной Азии аукнется в Восточной Европе гибелью тысяч и тысяч людей.
Пока из Поволжья в Приазовье вытеснены родственники скифов — роксоланы, более известные по греческой кличке как сарматы (поляки считают их своими предками). Как бы шутя, но твердо и последовательно, их теснят еще дальше на запад. А дальше — граница Римской империи. По масштабам кочевников, совсем близко. Воспитанные на древней кочевой традиции — земля принадлежит всем, а владеет ею сильнейший — сарматы границу проигнорировали, что, естественно, породило вооруженный конфликт. Фактор внезапности позволил сарматам потеснить имперские гарнизоны, более того, обложить противника данью.
Выплату дани, всячески ее затягивая, противник использовал, чтобы выиграть время и подтянуть войска. На степняков-сарматов обрушилась мощь регулярной армии. Не устояли степняки, не смогли выручить их из беды подоспевшие ближайшие родственники, аланы, непревзойденные наездники своего времени. Пришлось спасаться бегством. А куда бежать? Густела масса людей на причерноморской Великой Равнине, закручивался, набирал силу живой вихрь космических масштабов, вихрь истории, определивший ход мировых событий на сотни лет вперед.
Трудно поверить, что в те времена кто-то понимал смысл происходящего, более того, умело использовал понятое в своих интересах. Придется поверить, ибо это исторический факт: понимали, что происходит и потому извлекали из происходящего немалую выгоду готы — один из союзов германских племен, издавна обитавших на северо-западе нынешней Германии, пребывавших, как и все прочие германцы, в колониальной зависимости от Рима. Готы прекрасно понимали, что Римская империя исчерпала свои возможности и дряхлеет не по дням, а по часам. Тем не менее, одним германцам ее никогда не осилить. Империя будет топить их попытки освободиться в их же крови, продлевая тем самым собственную жизнь. Нужна огромная, враждебная Риму сила, способная сокрушать всемирного самодержца одним ударом. Такая сила есть — сарматы с их разноликими соседями по Причерноморью.
Слышите? Прокричал журавль! Мы нашли его, мы на верном пути!
Готы сумели покинуть родину-колонию. Кружным путем они добрались до Нижнего Приднепровья. Там обосновались, нашли общий язык с сарматами и аланами, другими соседями, объединили всех в Готский союз. Скифы в союз не вступили. Продолжали верить в могущество Рима? Вероятнее другое: в скифах готы видели главных политических соперников недалекого послеримского будущего и уже тайно размышляли над тем, как соперников ослабить. Для начала на скифах испытали боеспособность Готского союза. Война со Скифией принесла готам блестящую победу. Однако стоила эта победа дорого обеим сторонам.
Поразительное доказательство тому найдено в «могиле Скилура». Как известно, могила была завалена штабелем гробов, захоронениями знати с I в. до н. э. по III в. н.э., то есть заведомо доготскими. Исходя из ныне принятой гипотезы о происхождении уникального «братского кладбища», невозможно объяснить, почему в «могиле Скилура» покоились останки… двух людей, скифа и… гота. Необъяснимый факт окружили молчанием. Во имя гипотезы, без которой объяснения вообще не нужны.
Скиф лежал как глубоко чтимый военачальник: в доспехах, при оружии, более того — при знамени, покрывавшем его грудь. У ног погребенного находились останки человека в доспехах готского военачальника. Гота засунули в могилу как трофей, как жертвоприношение. Его латенский меч ритуально переломлен. Детали настолько красноречивы, что не менее просто догадаться о предшествующих событиях, ибо для них остается один вариант.
Где-то на дальних подступах к Неаполю (на Ишуньских или Перекопских позициях того времени) дорогу войскам Готского союза преградило крупное, близкое к полку, скифское подразделение. Не отступив ни на шаг, оно полегло в тяжелых, кровопролитных боях. Некому было спасти даже знамя. Единственное, что смогла сделать горстка оставшихся в живых — вынести с поля боя тело погибшего командира. Его и похоронили в пустом мавзолее, в пустой «могиле Скилура», воздав почести, достойные героя.
Вскоре скифы разгромили «тот самый» готский отряд, отбили знамя, в придачу к нему — тело погибшего командира готского отряда. Его-то и засунули в ту же могилу как трофей, как свидетельство отмщения за смерть героя. На грудь героя, как высшая почесть, легло знамя погибшего войска.
Общая сумма известных фактов о готском вторжении в Таврику склоняет к мысли, что победа готов над скифами добыта главным образом сарматскими и аланскими руками. «Археологическое присутствие» тех и других на Неаполе-Скифском несомненно преобладает над готским. Выходит, на Неаполе посеяны зерна глубинного, до сих пор существующего раскола в сообществе славянских народов, враждебной отчужденности некоторых из них, тяготения к Западу, прежде всего, к Германии?
Разгромив Скифию, готы оставили в Таврике «на хозяйстве» часть соплеменников и союзников, а сами во главе сармато-аланских колонн двинули кратчайшей дорогой на Рим.
… Отгремела путаная, растянутая на века эпоха расправы с ненавистной империей, точнее, с ее изначальной, западной половиной, наделавшей так много зла, проклятой всем белым светом. И как небо после грозы, стал проясняться смысл рожденного этой эпохой нового времени. Вслед за Римом Готский союз завоевал весь Апеннинский полуостров (материковую часть нынешней Италии). Победами союза воспользовались родичи готов, немалое семейство германских племен, чтобы занять вакантное место ведущей политической силы Западной Европы. Идет спешная консолидация этих племен, еще быстрее множатся ряды знати, которой овладевает амбициозная идея: возродить Римскую империю как орудие германского господства над всем миром. Знакомая песня, не правда ли?
Не лишне вспомнить, что на борьбу с Римом готы поднялись во имя благородной цели — освобождения от колониального гнета. Но, разрушив Рим, т.е. покончив с гнетом, они тотчас вышли из роли освободителей и повели себя как оккупанты. Значит, идея мирового господства уже существовала. Значит, она зародилась в какой-то готской голове еще на руинах поверженного Неаполя.
Теперь она владела тысячами германских умов и требовала решительных действий. Каких? Это подсказывал уникальный исторический опыт Римской империи. С ним творцы общегерманской внешней политики сверяли теперь каждый свой шаг. С чего начинали латиняне? С покорения ближайших соседей, за счет которых они расширили свое жизненное пространство. Что сделало их признанными властелинами античного мира? Вторжение в Африку, разгром стратегического соперника в Средиземноморье, государства Карфаген. Они до основания разрушили его столицу, город Карфаген, как тысячей лет ранее греки разрушили Трою, высоко вознесшую свои башни над всем греческим сообществом.
Где новый Карфаген, противостоящий германским амбициям? Где добыть жизненное пространство? Собственная территория между Эльбой и Рейном так ничтожна. А свободных земель рядом нигде нет. На севере и западе с германцами соседствуют сильные народы. Чтобы их потеснить, сил пока маловато. К тому же высок риск увязнуть в многолетних войнах и выдохнуться. На юге и востоке, сделав свое дело, расселились вчерашние союзники, склавены, в дальнейшем, западные славяне. С ними затеять войну? Причина бы нашлась. Но к ним с востока подтянулись родственные племена. Угроза войны их объединит, заставит забыть о расколе. На помощь придут еще какие-нибудь родичи. Нет, на востоке обстановка не лучше, если не хуже, чем на западе.
Раздумья о жизненном пространстве так и остались бы раздумьями, если бы в чьей-то голове, из глубин памяти (значит, в готский голове!) не всплыла счастливая мысль: есть жизненное пространство! Безбрежное и безлюдное Северное Причерноморье, сказочная Таврика, где среди бывших врагов и союзников оставлено одно готское племя. Оно не могло не уцелеть. Так что будет на кого опереться. Даже проход туда есть, среди редкого, почти незаметного славянского населения. Разве не самой судьбой он предназначен для германцев?
Насчет судьбы подумалось, конечно, сгоряча. Чуть позже в «проход» вклинятся венгры, последние домонгольские переселенцы с востока. В «проходе» — последнем свободном (условно) клинышке земли возникнет венгерское государство.
Явное попрание того, что начертано самой судьбой, германцы приняли удивительно спокойно. Они будут стараться, и не безуспешно, прибрать венгерское государство к рукам, но в любой ситуации будут видеть в нем союзника. Ни разу не позволят себе обвинить венгров, выходцев из диких южно-уральских степей, в неполноценности, в неспособности построить собственное государство.
Не слишком ли много странностей? Почему германцы не решились идти в Сев. Причерноморье? Почему сами не заселили «проход»? Почему не возмутились, а обрадовались, когда его заняли венгры?
На все вопросы один ответ: севернее облюбованного «жизненного пространства» вдруг обнаружилось — как будто с неба свалилось — огромное, могучее государство, Киевская Русь.
Что это? Карфаген, который германцам предстоит разрушить, чтобы стать мировой державой? Вроде бы так, хотя больше похоже на Римскую империю, чудесным образом воскресшую на новом месте. Несомненно одно: германцам Киевская Русь не по зубам. Если так, зачем соваться в проход? Чтобы наткнуться на славян? Это когда надо, их днем с огнем не сыщешь, а когда не надо, они тут как тут. Малейшее неудовольствие славян привлечет к западу внимание Киевской Руси. Государство-гигант непременно усмотрит там легкую добычу в виде шаткого германского содружества. Положение унизительное. Как из него выйти? Нельзя же вечно прятаться за спины кстати подвернувшихся венгров. Если хорошенько поискать, слабина у противника обязательно сыщется. Для Киевской Руси она — в соседстве со Степью, в необходимости неустанно отражать натиск азиатов-кочевников с востока. «Из всякого свинства, — гласит старогерманская пословица, — всегда можно вырезать кусок ветчины». Надо «посодействовать» гиганту, да так, чтобы он забыл про запад, едва успевая отбиваться от восточных «гостей», фактически наших союзников. Иначе и быть не могло! Две силы, одинаково враждебные третьей, обязательно найдут общий язык.
Нашли и на этот раз. Доказательство тому — резкий поворот в германской внешней политике. Былая робость германцев в отношениях с восточным соседом сменилась залихватской дерзостью, былое миролюбие — по-тюркски свирепыми набегами на западных славян, методичным их истреблением, как «неполноценных» людей, захватом их земель. Называлось это Drang nach Osten — натиск на восток.
Довольно быстро германцы оттягали у восточных соседей территорию, составляющую сегодня почти треть территории Германии (до недавнего времени ее занимала Германская Демократическая Республика). Со стороны Киевской Руси должного отпора захватчикам так и не последовало. Каждый раз более серьезная опасность отодвигала возмездие. Вражеские вылазки на западе каждый раз «таинственным» образом совпадали с набегами кочевников с востока. И так вплоть до татаро-монгольского нашествия, замедлившего развитие всей Европы на столетия, погрузившего ее во тьму невежества и страха.
… Трагическая дата нашей истории — 6 декабря 1240 года. После жестокой осады несметными татаро-монгольскими полчищами пал Киев. Самое могущественное европейское государство средневековья, создавшее самую высокую культуру своего времени, формально перестало существовать. Гибель Киевской Руси — один из самых тяжких уроков истории. Непростительно, особенно сегодня, забывать выводы, которые из него следуют. Прежде всего о том, что уничтожение противником госаппарата, «начальства», даже переход последнего на службу победителю еще не значит, что погибло общество. Если, конечно, оно осознает себя обществом. Последовавшая затем эпоха национально-освободительного движения на Руси против татаро-монгольского ига — более чем убедительное тому доказательство.
Иначе восприняли нашествие немцы. Падение Киева они расценили как сигнал к дележке русских земель. Нисколько не опасаясь прорыва кочевников на собственную территорию (чего стоит один этот факт!), немцы двинули крупные силы через покоренную Прибалтику к Новгороду. Они считали, что остается положить в карман всю Новгородскую республику: с запада на восток — от Чудского озера до Урала и немалого Зауралья; с севера на юг — от Ледовитого океана до Твери. Лакомый, завидный кусок! Едва ли не треть поверженного в кровь и прах государства! Однако 5 апреля 1242 года ждало немцев не дармовое «жизненное пространство», а Ледовое побоище, которое спасло русский север, изменило к лучшему судьбы всех народов Прибалтики.
… Мощно и неожиданно для соседей, как в свое время Киевская Русь, поднялось над общерусской бедой Московское государство.
Чуть ли не первыми его заметили опять же немцы. И проявили к нему стойкий, неподдельный интерес. Еще бы! Над германским содружеством тоже сгущались тучи смертельной опасности, исходившей от второго, южного потока переселенцев с востока на запад, переселенцев-кочевников, в основном, арабов. Вначале южный поток не затрагивал Зап. Европы, пролегал — по современным ориентирам — через Среднюю Азию, Афганистан, Иран, Ирак, Аравийский полуостров и далее — по северному побережью Африки, вплоть до Атлантического океана.
В 11 веке вблизи этого потока намечаются перемены не в пользу Европы: начинает рушиться Византийская империя. Центральная власть как будто забывает о далеких провинциях, и те, вынужденные сами думать, как прокормить себя, отпадают одна за другой от метрополии (как это происходит, мы теперь знаем из собственного горького опыта). Возникшие таким образом мелкие, «ничейные» государства очень скоро удостаиваются жгучей любви со стороны более сильных и благополучных соседей. Классический пример такого сценария — поздневизантийская история Малой Азии, по старинной терминологии — Анатолии.
В 11 веке там вдруг появляются тюркские кочевники огузы (позже их зовут торками, затем турками) — капля в море среди местного, европейского населения, решавшего, как ему жить без руководящих указаний вдруг исчезнувших византийских чиновников. Огузы все решили сами: образовали свои княжества (бейлики), внутри которых очутилось и коренное население. В 12 веке княжества объединились в союз — Иконийский султанат.
Татаро-монголы, возглавлявшие тюркскую экспансию, похоже, усмотрели в султанате опасного соперника и бросили против него заведомо необоримые силы. После ряда военных поражений султанат фактически развалился.
Бывшие союзники погрязли в междоусобицах и не придали значения тому, что одно из окраинных княжеств, занимающее незавидный уголок земли в северо-западной Анатолии, старается держаться подальше от междоусобной грызни. Дипломатический демарш правителя этого княжества-бейлика Османа-бея (1258—1324), объявившего свои владения независимым государством (без ложной скромности названным Османским), тоже никто не принял всерьез. Никому тогда не могло прийти в голову, что менее чем через 200 лет мини-государство Османов превратится в самую крупную и самую могущественную державу позднего Средневековья — в Османскую империю. И все потому, что Осман I понял: чем грызться за первенство среди своих, гораздо проще возвыситься за счет чужих, используя благоприятное стечение международных обстоятельств. Для него их стечение было исключительно благоприятным: рядом лежала беззащитная, умирающая Византия, и никто не мешал отрывать от нее кусок за куском, чем Осман I и занялся вкупе с потомками. Его сын захватил восточное побережье Мраморного моря, внук завоевал Восточную Фракию (1365 г.), административный центр которой Адрианополь сделал столицей Османского царства (ныне г. Эдирне неподалеку от границы с Болгарией).
Внук внес важные уточнения в дедовскую военную доктрину: а) самый эффективный способ расширить свои владения и нарастить свою мощь — вторгнуться в Европу и покорить западных славян, деморализованных разгромом Киевской Руси; б) главный, стратегический враг Турции — Московское государство, громко, на весь мир заявившее о себе великой победой на Куликовом поле. Надо сделать все, чтобы этот враг к моменту решающего столкновения был заведомо слабее.
Свои теоретические изыски внук без промедления воплощал в жизнь. В 1389 г. он разгромил сербов на Косовом поле. Сербия стала его данницей.
Последующие потомки Осман-бея покорили Болгарию, Македонию, Фессалию. Когда дошла очередь до Константинополя и полного разгрома Византии, в турецкие дела вновь вмешались татаро-монголы, чтобы еще раз осадить ретивого соперника.
В Анатолию вторглись орды Тамерлана. Под Ангорой (дотурецкое название Анкары) произошла решающая битва (1402 г.). Турки потерпели в ней сокрушительное поражение, что вынудило их на время притихнуть. Однако вскоре они поняли, что Золотая Орда разваливается. Рана, полученная на Куликовом поле, оказалась смертельной как для нее, так и для установленного ею миропорядка. Турецкая экспансия возобновилась с удвоенной энергией.
В 1453 г. турки взяли штурмом Константинополь. Византия, восточная половина Римской империи, на тысячу лет пережившая западную, перестала существовать. В новую, Турецкую империю включены — Албания, Греция, Молдавия, Валахия. Не остались без внимания и уцелевшие клочья Золотой Орды — Казанское, Астраханское и Крымское ханства. На них, как на ударную силу будущей войны с Московией, распространился благожелательный турецкий протекторат.
Но прежде, чем обрушиться на главного врага, турки посчитали нужным изолировать его от Зап. Европы: разгромить германское содружество. Редкостно наглядный пример того, как чрезмерная осторожность оборачивается непоправимой ошибкой. Тем не менее, ошибка была совершена, изогнутый полумесяцем ятаган турецкой агрессии навис над Германией.
Немцы прекрасно понимали, что без союза с Московским государством им не выстоять. Потому валом валили на московскую воинскую службу, надеясь, что вот-вот возродится былой Готский союз. Не возродился, если не считать его бледного подобия — воевавшей с турками русско-австрийской коалиции XVI-XVIII вв. Как преемница Киева, Москва вела столь же независимую внешнюю политику. Чем дальше, тем очевиднее становилось, что «турецкий вопрос» она в состоянии решить без посторонней помощи. Иными словами, дележки земель, которые удастся отвоевать у турок, не предвидится. Надо срочно повлиять на ход событий, изменить его в свою пользу. Надо убедить русских, что без немцев им ничего не добиться. Если они чего-то и добиваются, то не иначе, как при участии немцев. Так что часть «общих» завоеваний им следует уступать немцам.
Из таких посылок выросло уникальное по тем временам явление: тайная идеологическая агрессия. К участию в ней какие-то неведомые люди «из своих» привлекли едва ли не каждого немецкого обывателя, жившего в России. Участие обязывало неустанно внушать русским людям мысль об их изначальной неполноценности, второстепенности, не упуская даже пустячной возможности, чтобы упрекнуть их в «русском свинстве». Обязывало упорно лезть в русское начальство всех уровней, во все сферы русской духовной жизни.
Общеизвестно немецкое засилье в русской науке XVIII — XIX веков. Не так общеизвестно другое: причина засилья отнюдь не в особой национальной пронырливости немцев, чья житейская наивность тоже ни для кого не секрет, а в идеологическом задании, выполняемом с хваленой (и вполне заслуженно) немецкой добросовестностью. На историческую науку, для идеологии наиболее важную, обрушился прямо-таки разгул добросовестности. Каждый немецкий «ученый», поднятый идеологией на академический уровень, считал своим национальным долгом объявлять любой выдающийся памятник русской культуры более поздней подделкой, а любое техническое достижение русского прошлого — привнесенным извне. Стройным хором, ненавязчиво, но твердо, подобные «историки» рекомендовали искать корни русской истории не далее как в подмосковных болотах. Боже упаси русских от соблазна оглядываться на Сев. Причерноморье и Крым! Чтобы увековечить это идеологическое табу, под него подвели пресловутую «норманскую теорию». Вот он, журавль, кружит прямо над головой! Норманы — одно из северо-германских племенных объединений. С 10 — 11 вв. за ними закрепляется другое название — шведы. Согласно упомянутой теории, не кто иной, как норманы были инициаторами и руководителями строительства древнерусского Киевского государства. Следовательно, Сев. Причерноморье исконное германское владение. Дешево и сердито!
Принято стыдливо обходить молчанием совершенно очевидный факт: «норманская теория» гораздо старше того возраста, какой она себе приписывает. Задолго до ее официального рождения шведский король Карл XII рванул было в сторону «киевского наследства». Не на выручку Мазепы, конечно. Были у него свои планы, и еще что явно было — традиционное согласование своих действий с тюркской стороной. Бежал-то король-неудачник, угробив всю 30-тысячную шведскую армию в битве под Полтавой, прямиком к туркам. И османы признали со временем золотоордынские правила политический игры! Когда поезд уже ушел.
Если копать глубже, мы, несомненно, докопаемся и до готов. Как-нибудь в другой раз. На этих страницах готы уже сыграли свою роль.
На острие атаки немецкой идеологической агрессии «норманская теория» выдвинулась в XVIII веке, в екатерининскую эпоху, прославленную громкими победами русского оружия; выдвинулась, чтобы никаких побед не допустить, чтобы два гиганта (как прежде Киевская Русь и Золотая Орда) надолго увязли в кровавом единоборстве. Тогда мировая инициатива сама собой перейдет в руки германской стороны. Увы! Турецкая империя, перед агрессивным могуществом которой трепетала Зап. Европа, на роль Золотой Орды откровенно не тянула, а действия России столь же откровенно свидетельствовали о том, что повторять судьбу Киевской Руси она не намерена. Сокрушительные удары русских армий методично вышибали турок из Поволжья, Северного и Кавказского Причерноморья, Кубани и Крыма.
Спекулируя на великодушии победителей, «немецкая сторона» вырезала-таки из «общей добычи» пару-другую «кусков ветчины». Земельных кусков под немецкие колонии. Самый крупный, в 3-4 раза превышающий территорию Крымского полуострова, на Волге. Кое-что в Сев. Причерноморье, в Крыму. По сравнению с тем, что досталось русским, жалкие крохи.
Что же так ослабило удары как идеологической агрессии в целом, так и «норманской теории» в частности? Не что, а кто: борьба в идеологии — это борьба умов. Нашелся на Руси богатырь, сумевший вовремя занять решающий рубеж, противостоять тысячам враждебных умов — великий русский ученый и патриот, академик М. В. Ломоносов.
Как никто другой, он знал сильные и слабые стороны немецкого народа, был ему благодарен за науку (в буквальном смысле слова), был связан с ним кровным родством, счастливой женитьбой на немке. Тем беспощадней он обрушился на проходимцев немецкого происхождения, проникших в российскую академическую науку. Прежде всего, тех, кто хозяйничал в исторической науке. О том, какого ожесточения достигала в ней идеологическая борьба, как далеко выходила она за рамки чопорного академического этикета, свидетельствует дошедшая до нас фраза Ломоносова, которую он в сердцах бросил по поводу одной из таких «научных» дискуссий: «Чего только не наколобродит немецкая скотина в российских древностях!»
Вот на каком историческом фоне сделан вывод Ломоносова о том, что корни русской истории лежат в истории скифской, следовательно, искать их надо в Сев. Причерноморье и Крыму.
Мы удивляемся тому, как далеко проникал он мыслью в прошлое, не подозревая о том, что столь же далеко его мысленный взор проникал в будущее. Ломоносов не мог не видеть, что рано или поздно немецкая идеологическая агрессия неизбежно перерастет в военную агрессию против России, чреватую неисчислимыми бедствиями как для российского, так и для немецкого народов, а в случае немецкой победы — для всего мира.
В екатерининскую эпоху добить «норманскую теорию» не удалось. Как и следовало ожидать, защитников и пропагандистов у нее обнаружилось предостаточно. Ее питал сам уклад жизни российского народа, задавленного чудовищными налогами и бесчисленными повинностями («теория» вроде бы указывала на причину царящей безысходности). С запада ее подпитывала нарастающая потребность в жизненном пространстве. Тем не менее, вклад М. В. Ломоносова в борьбу с «норманской теорией» в российской исторической науке (главным оружием немецкой идеологической агрессии в целом) столь же значителен, как все то, что сделано им для Отечества. Заложенная им традиция идейной борьбы в «нейтральной к политике» исторической науке замедлила перерастание немецкой идеологической агрессии против России в агрессию военную почти на 200 лет.
Когда военная агрессия стала для нас реальностью, Великой Отечественной войной 1941—45 гг., тотчас, как из воздуха, материализовался ветхозаветный германский вандализм, поперло наружу прочее, давно знакомое «немецкое свинство». Ничего не развеялось, ничто не кануло в Лету. Ни единой мелочи! Крым оккупанты переименовали в Готенланд, Симферополь — в Готенбург, вывесили таблички со своими названиями симферопольских улиц, набранными не общепринятым в Германии латинским, а готическим шрифтом. Даже вели археологические раскопки на Неаполе. Искали, конечно, готов.
И все это развеялось после того, как гитлеровская военная машина была разбита вдребезги, а любителям решать проблемы собственной страны за счет других стран пришлось надолго расстаться с голубой мечтой о жизненном пространстве? Нет, не развеялось. Все это вновь перевоплотилось в агрессию идеологическую. В нашей исторической науке вновь воскресла «норманская теория», которая потихоньку задушила в своих объятьях разбуженный Победой 1945 года интерес нашего народа к собственному прошлому.
Ныне вдохновителем идеологической агрессии против славян, владеющих «излишками» особо ценного жизненного пространства, выступает целый союз этнически разношерстных «цивилизованных стран» во главе с США, «семерка» прежних врагов и… друзей России. Разношерстность «семерки» не могла не отодвинуть в тень прежнюю, порядком обветшавшую вывеску «норманская теория». Господство на наших «суверенных» осколочных территориях «семерочного» рынка не могло не трансформировать и саму «теорию» на рыночный лад — в компрадорское течение внутри нашей, тоже осколочной, исторической науки. Осталась неизменной идеологическая суть «теории», ее исходные посылки: славяне, прежде всего, русские (имеется в виду русское триединство — русские, украинцы, белорусы), люди «неполноценные», «второсортные»; все, чем они гордятся, все, что считают своими достижениями, пришло к ним извне; вся их история — побочная, тупиковая линия, а магистральный путь в будущее прокладывают для всего человечества «цивилизованные» страны. Им и карты в руки — исключительное право распоряжаться всеми природными ресурсами Земли, на чьей бы территории они не находились, равно как и территориями всех стран, не входящих в «семерку», если те или иные территории, а то и целые страны, окажутся в сфере интересов цивилизованной шайки.
У компрадоров от науки тот же социальный заказ, что и у рыночных собратьев: содействовать распродаже национального достояния. Стараются, содействуют. Еще немного, и выяснится, что у русских вообще нет «исконной» территории, что их как «неграждан» лучше всего развеять по земному шару. Не в этом ли содействии исток и легкомысленного отношения части общества (в основном, начальствующей и околоначальственной) к собственным памятникам истории?
Вот он, журавль! Хватайте и держите крепче! Вот она, главная составляющая!
Представители компрадорского течения в отечественной исторической науке легко узнаваемы по их неистовому стремлению быть замеченными на Западе. Что там готовы заметить, самым недогадливым давно ясно. Течение это по вполне понятным «распродажным» причинам очень влиятельно. Каждый входящий в историческую науку обязан не только ему поклониться, но и отразить в своем научном творчестве какой-то непременный минимум его идей. Иначе входящему не стать ни кандидатом, ни тем более доктором исторических наук.
Какой же путь предлагают сегодня человечеству «цивилизованные страны»? В принципе тот же, который навязывали с III по XIII век тюркские кочевники: доедайте до последней крошки собственные природные ресурсы и двигайтесь туда, где они еще есть, где их можно отнять у других.
Стоит присмотреться к мелькающим в телепередачах видам Афганистана, Ирана, Ирака, Турции, Сирии. Сплошные пустыни и полупустыни, мертвые горы — ни деревца, ни травинки, одни камни, потрескавшиеся от зноя. А ведь не в таком уж далеком прошлом это были райские края, земля обетованная, богатая растительностью, водой, животным миром.
В критическую стадию природа этого региона вступила на рубеже XIX—XX вв., когда в нем хозяйничали представители «цивилизованных стран» — чиновники, бизнесмены и т. п. Как и местные крестьяне, они не видели, что природа региона уже не в состоянии выдерживать натиск традиционного полукочевого скотоводства, что регион — на грани экологической катастрофы. Вместо того, чтобы развивать отрасли народного хозяйства, которые ослабили бы давление экономики на окружающую среду, они с еще большим усердием, чем безграмотные скотоводы, консервировали средневековье.
Прогрессивные перемены все-таки происходили, в чем главная заслуга местных демократических сил. Дальше других сумели продвинуться по этому пути Ирак и Турция. В целом радикальные экономические перемены в этом регионе запоздали. Выправить положение могла только чрезвычайная природоохранная программа, к тому же воплощенная в жизнь в максимально сжатые сроки.
Современный крестоносец
К подобным шагам страны региона не были готовы. И не готовы до сих пор.
Деградация природы достигла критической точки и приняла характер необратимого процесса. Животноводство попало в тиски хронической бескормицы. Сотни тысяч людей лишились средств к существованию. Им не остается ничего иного, как бежать по давнему следу «великого переселения народов» — на запад, на север. Давние переселенцы-кочевники являлись как завоеватели, нынешние проникают в Европу под видом беженцев, нелегалов. Всеми правдами и неправдами они стремятся осесть в любой западно-европейской стране, вплоть до Финляндии и Норвегии, чему всячески препятствуют местные власти, расценивающие эмиграцию из экологически неблагополучных стран как разновидность преступности. Глубинные причины явления их по-прежнему не интересуют. Для них важно одно: вытряхнуть из бедствующих регионов (потому и бедствующих, что попали в зависимость от «цивилизованных» стран) максимальное количество сырьевых ресурсов — нефти, шерсти, мясных продуктов и т. д. Вытряхнуть для собственного потребления, а там — в Иране, Афганистане и т. д. — хоть трава не расти.
… Не менее половины последней главы этой книги написано под аккомпанемент очередного бразильского телесериала «Роковое наследство». Наиболее выразительные кадры в нем те, что открывают и завершают каждую серию: многотысячные стада крупного рогатого скота, укрывшие землю сплошным живым ковром (что под ним способно выжить?); стада, бегущие по сельве будто огненный вал лесного пожара (что перед ним способно устоять?). Сельва гибнет, чего не в состоянии скрыть ни отдаленная пейзажная съемка, ни другие операторские ухищрения. Это бьет в глаза на крупных планах. Например, в эпизодах поисков заплутавшего в сельве хозяина скотопоголовья. Участники поиска размахивают мачете, что по замыслу режиссера должно показать телезрителям, как тяжко киногероям одолевать непроходимые заросли. Но одолевать-то нечего. На экране выморочное редколесье. По нему в любом направлении свободно пройдет грузовик.
Признаки назревающей глобальной беды — всего лишь эпический фон для камерного сюжета: нескончаемой, мелочной склоки между двумя богатыми семьями. Причиной склоки персонажи телефильма, вслед за сценаристом и режиссером, считают давние, взаимные обиды. Им невдомек, что истинная причина вековой вражды вот-вот проглянет из-под травы первыми гектарами пустыни. Две тысячи лет назад по таким же бескрайним и тучным пастбищам Центральной Азии, среди таких же лесов, еще казавшихся вечными, несокрушимыми, текли такие же несметные стада — основа жизни тюркских кочевников. Последние тоже считали, что склоки между ними учащаются из-за каких-то давних, взаимных обид. Пока не увидели их истинную причину: пастбища деградируют, «роковое наследство» тает на глазах.
Чем обернется гибель травы (вместе с деревьями) для Бразилии? Куда побегут индейцы и пастухи? Они уже бегут — в железобетонные джунгли Сан-Паулу. Но в них, кроме нищеты, ничего не растет.
В упоминавшихся ближневосточных странах, где пустыни давно не новость, а их прогрессирующее развитие — повседневная реальность (как и во всей Средней Азии, в прикаспийских регионах Кавказа), «личные обиды» успели перерасти в крупномасштабные боевые действия.
Закручивается та же спираль, что зародилась над Сев. Причерноморьем в III в. н. э., ее очередной, трагический виток. На этот раз не общеевропейской — всемирной беды. Стократно возросла скорость вращения. Давно ли жестяно затрезвонила «перестройка»? А мы уже успели пережить развал Советского Союза (второй Киевской Руси); побывали в роли свидетелей развала Югославии под ударами внезапно воскресшей старонемецкой доктрины «Натиск на восток». Разумеется, в современном обличье и с модернизированной формулировкой того же лозунга: «расширение НАТО на восток». Доктрина вроде бы не столько немецкая, сколько союзническая, выдвинутая семеркой «цивилизованных» стран во главе с их заокеанским лидером. Нет, старонемецкая суть все та же, в чем мы могли убедиться, если бы не столь равнодушно наблюдали за очисткой руками хорватов западных областей Югославии от сербов под «жизненное пространство» для немцев.
Потом была Косовская трагедия, вынудившая сербов покинуть свою историческую родину…
Голубая мечта врагов славянства (планомерно и настойчиво претворяемая в жизнь) — стравить для взаимоуничтожения украинцев и русских, как уже стравили хорватов и сербов. Это был бы конец для всего славянства. У нас, надо полагать, хватит ума, чтобы этого не допустить. Но хватит ли времени, чтобы понять: нашу землю уже очищают от нас голодом и нищетой, для чего ее рыхлят не бомбовыми ударами, как в Югославии, а с помощью нового, экономического оружия, которое пострашнее атомного, и которое мы, несмотря на предупреждения друзей и циничные признания заклятых врагов, продолжаем считать бескорыстной помощью Запада, его неусыпной заботой о нашем светлом будущем. Может случиться, что пока мы задумаемся, пока рассмотрим истинное положение вещей, само наше имя развеется по ветру. К тем, кто не думает, история жалости не знает. Мы явно отвыкли думать, отвыкли помнить и уважать свое прошлое. Легко забываем даже то, что происходило вчера. Если мы хотим идти дальше, придется научиться думать. Для начала придется вспомнить о том, что один из народов древнего мира и в нашей эре остался тем же народом, каким был прежде: не подверженным комплексу неполноценности, не приемлющим бездумного подражательства, уверенным в собственном будущем. Это, конечно, греки.
В чем секрет их редкостного исторического долголетия? В прогремевших на весь мир победах Александра Македонского? У римлян военных побед было куда больше. Во всемирно известных, выдающихся достижениях греков в искусстве, в умении одухотворить им ремесла, любой вид хозяйственной деятельности, любую сторону повседневной жизни? В том же не менее преуспели египтяне, которых греки считают своими учителями в архитектуре и монументальном строительстве. Египтян давно нет, как и римлян. Или разгадку надо искать в благодатных природных условиях Греции? В тех же средиземноморских условиях жили десятки народов, исчезнувших вслед за римлянами и египтянами.
Если продолжить анализ возможных причин исторического долголетия греков, то «в осадок» выпадет истинная причина: глубокое уважение к собственному прошлому, каким бы оно не было. Для греков, в отличие от нас, не составляют тайны и не содержат темных пятен страницы отечественной истории давностью в 10 — 15 и более сотен лет. Причем, события самой глубокой давности им известны не в общих чертах, а, как правило, во всех подробностях. Особенно повезло XIII столетию до н. э. Из него вышли и до сих пор восхищают мир две (кажется, из пяти, три или две погибли вместе с Римской империей) грандиозные гомеровские поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Наиболее четкое представление об уровне детализации в поэмах каждого действия, каждой сцены, вплоть до самой, казалось бы незначительной, проходной, дает как раз проходная сцена из «Илиады»: приготовление лечебного блюда и напитка для раненого в битве врача Махаона, сына легендарного целителя Асклепия. По описанию кулинарных действий служанки Гекамеды вполне возможно приготовить те же яства сегодня.
Обстоятельно, со знанием дела описано в «Илиаде» вооружение участников Троянской войны (далеко не то, что применялось тысячу лет спустя, при Александре Македонском). Под Троей бились двулезвийными топорами, палицами из «седого железа» (до других возможностей малознакомого металла еще предстояло докопаться).
Для поражения противника на расстоянии применялись обоюдоострые копья, камни, выпущенные из пращи или брошенные рукой, а то и острые куски мрамора (воевали-то греки с греками на берегу моря, которое ныне зовется Мраморным). Бронзовый меч доигрывал скромную роль вспомогательного оружия ближнего боя.
Не менее полно представлено в «Илиаде» защитное вооружение того времени — панцири, шлемы, щиты и другие его виды, от новейших образцов до архаических, как, например, кожаный шлем Одиссея, обшитый кабаньими клыками. А нередкие в поэме картины гибели людей от смертельных ран грешат, с нашей точки зрения, чрезмерным натурализмом.
Принцип максимальной детализации выдержан и в «Одиссее». Самое удивительное то, что поэмы Гомера около тысячи лет жили только в памяти странствующих певцов. На пергаменте они зафиксированы в Афинах, в годы правления тирана Писистрата (ок. 560-527 гг. до н.э.).
Кроме древних художественных произведений, у греков есть богатейшая мифология (известная нам несравненно лучше, чем собственная), позволяющая ее творцам проникать (при соответствующей научной методике) в невообразимо далекие, лучше сказать, космические дали своей истории, вплоть до ее общечеловеческого начала…
Народ, который уважает собственное прошлое, не может не испытывать уважения к себе и не вызывать уважения со стороны других народов. Именно поэтому он никогда не собьется с дороги.
У нас есть все, кроме этого драгоценного качества. Наша история наполовину состоит из темных пятен, а ранняя история — чуть ли не сплошное темное пятно, клубок уцелевших фактов, имен и дат. Без ранней истории нам не обойтись. Мы обязаны ее распутать, чтобы окончательно не потерять право на будущее. Осталась единственная ниточка между нами и нашей ранней историей — Неаполь-Скифский!
24 мая 1998 г. Симферополь.