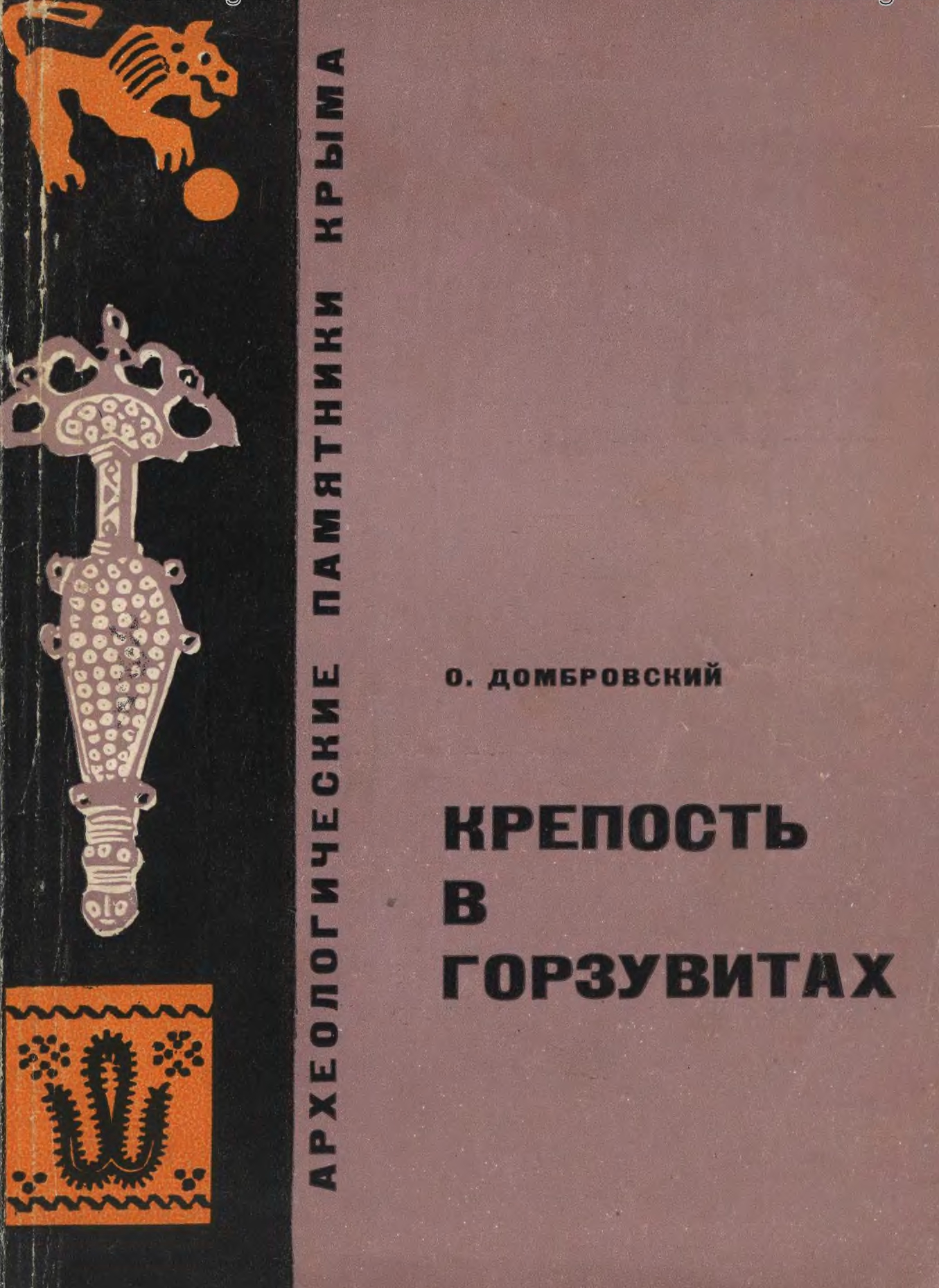Домбровский О.И. Крепость в Горзувитах. Симферополь : Таврия. 1972 г.
..Там же построил он замок Алустон и замок в округе Горзувитской.
Прокопий Кесарийский, «О постройках».
Крепость, построенная почти полтора тысячелетия назад, долгое время защищала от вражеских набегов Гурзуф и его сельскую округу. С укреплением в Гурзуфе — Горзувитах — связаны интересные страницы истории Крыма, которые много веков спустя сумели прочесть ученые.
Об этом памятнике прошлого, о многих важных событиях крымского средневековья и рассказывает книга О. Домбровского. В ее основу легли результаты многолетних исследований, проведенных автором и его коллегами — сотрудниками Крымского отдела Института археологии АН УССР.
Предисловие
Скромная известность Гурзуфа наших дней — одного из привлекательных курортных мест Большой Ялты — далека от того значения, которое имел он в эпоху раннего средневековья. Его короткая военно-политическая слава давно угасла, сделалась достоянием истории; однако в последние годы она вдруг ожила на страницах путеводителей и краеведческих очерков. Скудные сведения источников о средневековом Гурзуфе то и дело переходят из книжки в книжку и, к досаде историков, начали уже обрастать всякими нелепыми вымыслами. Но в одном сходятся все — и дипломированные ученые, и просвещенные дилетанты: Гурзуф, судя по названию и местоположению на побережье, — это Горзувиты, упомянутые Прокопием Кесарийским в трактате «О постройках»!. А из этого не следует ли само собой, что руины на двурогой Горзувитской скале, выступающей в море к югу от холма Балготур, и есть остаток Юстиниановой крепости («замка»)?
Казалось бы, все очень просто: где еще в Гурзуфе можно найти более подходящее место для приморской твердыни? И все же многим историкам и археологам отождествление это представляется малоубедительным.
В самом деле, не могла ли крепость Юстиниана находиться в ином месте, пусть, на наш взгляд, и менее удобном, например, на Балготуре? Ученые не исключали этой возможности. Однако от вершины холма до моря далековато, и крепость, будь она построена здесь, не смогла бы контролировать берег и гавань, а в этом ведь и состояло ее назначение. Признаков каких-либо средневековых боевых сооружений на Балготуре до сих пор не найдено. Но хотя на Гурзуфской скале остатки таковых налицо, для выяснения времени этих построек всегда недоставало объективных археологических данных.
Неоднократное обследование крепости долго было безрезультатным. Собранные там обильные археологические материалы говорили главным образом о XIV и XV столетиях, более ранние (относительно немногочисленные) — о XII—XIII вв.; шестой же век — время Юстиниана и Прокопия — на самих развалинах крепости ничем представлен не был. К тому же и устройство некогда сурового бастиона (который приобрел в наши дни старчески добродушный вид) свидетельствует о том, что крепость когда-то защищали огнестрельные орудия: сохранились основания пушечных амбразур. Естественно, такое и присниться не могло никому в VI в. Старое название скалы — Дженевез (или Джуневиз)-Кая указывает на принадлежность крепости генуэзцам — средневековым обладателям примитивной пороховой артиллерии. Это находит свое подтверждение и в итальянских письменных источниках, один из которых — Устав Кафы — был переведен русским ученым В.Н. Юргевичем. В XV в. Гурзуфская крепость подчинялась генуэзскому консулу и входила в состав так называемого «Капитанства Готии», учрежденного генуэзскими властями на Южном берегу Крыма.
Так куда же делись тогда остатки или хотя бы следы юстиниановского укрепления? Ведь в парках Гурзуфа, у моря, на окрестных виноградниках и табачных плантациях не раз встречались обломки привозной восточно-византийской или херсонесской керамики, в том числе амфор и других сосудов V—VII вв. Под скалой Дженевез-Кая находили монеты VI в.; могилы с вещами и монетой того же времени были случайно обнаружены в Гурзуфе на площадке Дженевез-Мезер (Генуэзское кладбище). Такие же находки на территории всего Гурзуфа соседствуют с более поздними материалами (керамика, стекло, кость), не раз переброшенными с места на место в результате строительной или сельскохозяйственной деятельности населения городка. Из всего этого ясно одно: в юстиниановское время тут не обошлось без греков, а значит, и в крепости мог находиться небольшой византийский гарнизон.
Исследование «крепости в Горзувитах» немаловажно для разработки ряда проблем, связанных со средневековой Таврикой. Оно неизбежно приобретает широкий, комплексный характер и занимает определенное место в изучении средневековых памятников южного и юго-восточного побережья Крыма.
Попытаемся и мы набросать, насколько позволят археологические данные, картину жизни Южного берега, точнее сказать, побережья между Херсоном и Боспором, в эпоху раннего средневековья. Рассмотрим затем памятники Гурзуфской котловины («округи Горзувитской»), непосредственно окружающие приморскую крепость, которая в VI в. вместе с Алустоном положила начало византийскому освоению Таврики. В заключение расскажем и о самой крепости, какой она представляется на основных этапах истории средневекового Крыма.
(нажмите на фото для увеличения)
Окраина великой империи
При Юстиниане I «держава ромеев» — уже византийская, средневековая, но по-прежнему величавшая себя римской («ромейской»), как бы ожила после целой полосы неудачных войн и социально-экономических кризисов. Византийцы ощущали себя законными наследниками не только римской культуры, но и всех прежних римских владений: земель, действительно оставшихся в руках Византии, и тех, захваченных «варварами», которые предстояло снова отвоевывать. Они, как и древние римляне, умели не только захватывать страны, бросать на колени местных царьков, выкалывать глаза вождям непокорных племен и повсеместно ставить во главе управления своих военных администраторов. Они знали, когда и в чем поладить с местным населением, какими путями сделать «варваров» как бы своими согражданами, а бывших или возможных противников склонить к союзу в борьбе с общим врагом.
Расширение и укрепление границ государства было главной целью Юстиниана, безопасность торговых путей — сухопутных, а еще более морских — его неотступной заботой. Прокопий яснее ясного говорит о тех мероприятиях, военных и дипломатических, которые провел император в Таврике.
От Херсона к Боспору и обратно ходили византийские корабли с продовольствием, солдатами, оружием, товарами. Берег, населенный «варварами», будь он неосвоенным и враждебным, в любом месте мог таить угрозу; к тому же туда то и дело прорывались через горы Таврики разбойные жители предгорья и степняки. От их нападений страдало прежде всего население побережья, но и византийским мореходам, случись какая нужда, было бы, что называется, негде приткнуться. Вот почему дальновидный император предпринял все то, о чем повествует Прокопий.
Отрывок из трактата «О постройках», в котором упоминается Гурзуфская крепость, известен в двух переводах. Первый из них сделан П.И. Кеппеном (из него мы взяли эпиграф для этой книги), второй принадлежит С.П. Кондратьеву. Поскольку отрывок этот, чаще всего в новейшем, кондратьевском переводе, широко используется исследователями средневековой Таврики, приводим его без сокращений:
«…Что касается городов Боспора и Херсона, которые являются приморскими городами на том же берегу Эвксинского Понта за Меотидским болотом, за таврами и тавроскифами, и находятся на краю пределов римской державы, то, застав их стены в совершенно разрушенном состоянии, он сделал их замечательно красивыми и крепкими. Он воздвиг там и два укрепления, так называемое Алуста и в Горзувитах. Особенно он укрепил стенами Боспор; с давних времен этот город стал варварским и находился под властью гуннов; император вернул его под власть римлян. Здесь же, на этом побережье, есть страна или область по имени Дори, где с древних времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию. Они добровольно остались здесь и в мое еще время были в союзе с римлянами, отправлялись вместе с ними в поход, когда римляне шли на своих врагов, всякий раз, когда императору было это угодно. Они достигают численностью населения до трех тысяч бойцов, в военном деле они превосходны, и в земледелии, которым они занимаются собственными руками, они достаточно искусны; гостеприимны они больше всех людей. Сама область Дори лежит на возвышенности, но она не камениста и не суха, напротив, земля очень хороша и приносит самые лучшие плоды. В этой стране император не построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят быть заключенными в каких бы то ни было стенах, но больше всего любили они жить всегда в полях. Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения врагов, то император укрепил все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил от готов беспокойство о вторжении в их страну врагов. Таковы были его дела здесь…»
Наряду со строительством приморских крепостей (которое, как увидим, продолжалось и в последующее время), Юстиниан I стремился к сближению с местным населением, причем делал это истинно по-ромейски — через некое подобие военного союза против степных и предгорных «варваров» между великой империей и горсткой воинственных обитателей побережья.
С вопросом, что представляла собой «крепость в Горзувитах», тесно связаны и другие, не менее трудные, а порой запутанные вопросы. Теребя их узел то с одной, то с другой стороны, можно несколько его ослабить, но чтобы развязать, необходима какая-то последовательность в извлечении каждой нити. Таким моментом, когда одну из них удалось выпутать, было археологическое исследование побережья, в частности Гурзуфской крепости и соседних с ней памятников. Она-то и потянула за собой проблемы, к освещению которых мы сейчас переходим.
Между Херсоном и Боспором
Две крепости («замки» — переводит Кеппен) возведены по распоряжению Юстиниана на побережье между городами Херсоном и Боспором, причем стены и башни этих городов, как свидетельствует Прокопий, пришлось отстраивать почти наново. Каботажное плавание вдоль крымских берегов было, таким образом, в середине VI в. налажено. Чем же определился выбор места для строительства новых крепостей? Какую картину в целом являла береговая полоса между Херсоном и Боспором во времена Юстиниана и Прокопия?
Бросим прежде всего взгляд на окружающую местность, а заодно отдадим себе отчет и в том, насколько она изучена в археологическом отношении.
Ширина и рельеф берега между морем и горами на этом протяжении не одинаковы. К юго-востоку от мыса Феолент, где практически кончалось освоенное Херсоном побережье, каменные берега почти везде вздымаются прямо из морской пучины, и лишь кое-где можно найти нелегкий подступ к ним с моря. За исключением Симболона (позднее — у генуэзцев — Чембало, современная Балаклава) до Батилимана и Ласпи нет ни одной бухты, которая в те времена могла бы послужить гаванью.
Раннесредневековое прошлое Балаклавы не ясно: этот период ее истории совершенно не изучен. О ласпинской же котловине и Батилимане можно сказать несколько больше. Хотя развалин средневековых крепостей VI в. там пока не обнаружено, слабые следы поселений последующих веков есть. Интенсивное обживание этого труднодоступного уголка побережья шло преимущественно в период VIII—X столетий и продолжалось до захвата Крыма турками.
Мыс Сарыч и примыкающее к нему на западе каменистое урочище Чобан-Таш долго — до X в. — оставались дикими и безлюдными. Море в этих местах неспокойное, с сильными ветрами, малейший же шторм мог разбросать неглубоко сидевшие в воде средневековые суда, разбить их о заваленные каменными глыбами берега или подводные скалы.
Урочище Комперия простирается над морем между Тессели и мысом Сарыч. Несмотря на крутизну склонов, оно удобнее для жизни: внизу имеются более или менее сносные подступы к морю; из-под обрывистых скал, отделяющих Комперию от Ласпи, бьют родники. На склонах урочища — площадки, где с IX—X вв. ютились среди камней хижины и загоны для скота. Однако разведка, проведенная здесь, не выявила следов более ранних поселений. Можно предположить, что в VI в. местность эта была столь же безлюдной, как и изрезанные оврагами и оползнями склоны на участке Тессели — Форос.
За мысом Форос, где обрывы Главной горной гряды отступают далеко от берега, доступная с моря и относительно просторная местность орошается горными речками. Тут есть небольшие плодородные долины, пригодные для земледелия; есть и относительно ровные площадки, удобные для жилья. Скалистые отторженцы Главной гряды можно было использовать в качестве убежищ или построить на них неприступные укрепления. Однако все это относится к VIII—X вв. и более позднему времени. Поселений же VI столетия пока не обнаружено, несмотря на систематические и многолетние археологические разведки, а также широкое вскрытие грунта при дорожно-строительных работах, которые велись в присутствии археологов.
Тем не менее отрезок побережья между Форосом и мысом св. Троицы дает даже в подъемном (т. е. собранном на поверхности земли) археологическом материале некоторую долю более ранних находок — обломков посуды V — VII вв. При этом количество их все возрастает по направлению на северо-восток вдоль побережья; очевидно, на начальном этапе средневековья Южный берег в той или иной мере осваивался людьми. Однако на всем протяжении от Ласпи до Симеиза не встречено ни остатков постоянных жилищ V—VI вв., ни соответствующих могильников, ни прочих атрибутов длительного и устойчивого обитания, а есть лишь единичные находки вещей, относящихся к периоду раннего средневековья.
На побережье к северо-востоку от Симеиза, вернее, от соседних с ним поселков Оползневого (б. Кикенеиз) и Голубого Залива (б. Лимены), резко возрастает количество археологического материала VIII—X вв. (мы не говорим сейчас о преобладании более позднего): керамика рассеяна всюду, а ее скопления и совпадающие с ними строительные остатки указывают на существование поселений. К этому же времени, но, снова подчеркнем, не более раннему, относятся многие известные здесь средневековые укрепления (так называемые исары), а также синхронные им могильники.
Отметим, однако, что, начиная с этих мест, все более и более ощутимы следы жизни предшествующего времени, вплоть до эллинистического и позднеантичного. Благодаря усилиям археологов открыты могильники (каменные ящики) и отдельные, редко разбросанные поселения тавров. По направлению к Ялте и Гурзуфу попадаются они все чаще. То же самое можно сказать о материалах V—VI вв., но их все же так мало, что напрашивается мысль: не было ли после довольно интенсивного освоения Южного берега поздними таврами какого-то длительного перерыва, когда почти все побережье опустело? Ведь только к северо-востоку от Ялты — особенно вокруг Гурзуфа — мы встречаемся, наконец, с большими могильниками, которые охватывают и время Юстиниана.
Такое же, как к западу от Оползневого, постепенное «разреживание» следов раннесредневекового населения мы увидим, следуя от Гурзуфа к Алуште, а еще больше — к востоку от последней в сторону Судака и далее. На этом участке побережья редеют вместе со средневековыми памятниками древнейшие — таврские, восточнее Судака почти неизвестные. Однако и здесь, как к западу от Гурзуфа, мы непрерывно наталкиваемся на следы человека в виде обломков гончарной и лепной (таврской) посуды, на вещественные остатки более позднего времени — до VIII—IX вв. включительно.
Берег от Судака до Феодосии и особенно от Феодосии до Керчи изучен слабо. Тем не менее можно предположить, что и на этом отрезке побережья как таврских, так и раннесредневековых поселений было немного; в противном случае их удалось бы обнаружить при различных работах, связанных со вскрытием грунта.
Продолжим сопоставление археологической картины с прерванным выше обзором местности. От Байдарских ворот до восточных обрывов Караби-яйлы Главная гряда возвышается сплошной стеной, лишь местами прорезанной перевалами. Через некоторые из них — Эски-Богаз, Гурзуфское седло, Кебит- и Ангар-Богазы, Таш-Хабах, Чигенитра, Алакат и другие — издревле проходили проезжие дороги из предгорных районов Крыма к морю. В развалинах древних стен, некогда перегораживавших эти перевалы, мы, вслед за П.И. Кеппеном, видим «длинные стены» трактата «О постройках».
Это самая широкая и орошаемая часть побережья. На ней, между тянущимися к берегу отрогами гор, — глубоко промытые речками лесистые ущелья и овраги, которые внизу переходят в открытые к морю широкие котловины. Некоторые речки впадают в бухты, защищенные высокими мысами. Места между Симеизом и Алуштой удобны как для стоянки судов, так и для связи через побережье и горные перевалы с глубинными районами полуострова. По-видимому, первые византийские крепости были нужны здесь прежде всего по двум причинам: для контактов с населением этих районов (или обороны от него — в случае агрессивных выступлений с его стороны) и для защиты главных дорог к морю. Вспомним, что римляне тоже поставили свою крепость Харакс именно тут, где и пресной воды больше, и земля плодороднее, и земледельческое население многочисленнее. Ни римлянам, ни византийцам строить крепости в диких, безлюдных, голодных местах не имело бы смысла.
От восточного края Караби до самого Судака горы, заметно снижаясь, тянутся уже не сплошной цепью, а в виде отдельных, как бы хаотически расставленных высот, которые в сумме представляют собой все же сильно и трудно преодолимое препятствие. Усиленные какими-нибудь фортификационными сооружениями, они могли бы заслонить эту часть побережья и построенную на ней крепость не хуже, чем весь «хребет Яйла», как назвали Главную гряду Крымских гор картографы начала прошлого века.
Подступая вплотную к морю в районе Кара-Дага, горы как бы замыкают южную часть побережья. Все то, что находится за Кара-Дагом, это как бы уже другая страна со своим холмистым ландшафтом, с севера и востока непосредственно переходящим в степной. Здесь иной географический колорит, иное древнее и средневековое население, и, пожалуй, — в эпоху средневековья — свой исторический жребий.
П.И. Кеппен, которому всецело принадлежит заслуга открытия и первой научной интерпретации заградительных стен на перевалах Караби, Демерджи, Чатыр-Дага, пишет о следах подобных же стен в горном районе между Судаком и Кара-Дагом. Поскольку район этот почти не изучен, нельзя с уверенностью заявить, что побережье от Нового Света до Кара-Дага тоже было защищено «длинными стенами» и могло иметь отношение к «стране Дори». В пользу этой рабочей гипотезы косвенно говорит открытое недавно М.А. Фронджуло Судакское укрепление VI в..
Укрепление в Сугдее (Судаке) не было известно Прокопию, который не мог бы его не назвать. Остается думать, что оно возникло уже после выхода в свет трактата «О постройках», т. е. позже 553—555 гг. Произошло ли это еще при Юстиниане I или уже при ком-то из его преемников, сказать трудно. Но главное ясно: византийская держава, пока хватало сил, осваивала берега Таврики между Херсоном и Боспором и строила «на том побережье» свои укрепления.
Если обратим внимание на расстояния трех названных крепостей друг от друга, то заметим, что по морю путь от Горзувит до Алустона вдвое короче, чем от последнего до Сугдеи, а посреди него находится еще одна средневековая крепость — Чобан-Куле. Дата ее возведения пока не установлена (крепость не подвергалась раскопкам), но если бы оказалось, что и Чобан-Куле возникла в VI—VIII вв., то весь ход византийского освоения побережья, начатого при Юстиниане I, стал бы вполне ясным. Мы вправе были бы тогда ожидать и искать аналогичные укрепления где-то в районе Отуз (современная Щебетовка) или Феодосии, раннесредневековый период которой темнее темного и где тоже не случайно и не на пустом месте появилась генуэзская фактория, позднее разросшаяся в большой город. Проделывая такой же расчет расстояний к западу от Горзувит, мы наткнемся в районе Форос — мыс св. Троицы на остатки приморских укреплений, нижние, т. е. самые древние, даты которых, к сожалению, тоже требуют выяснения путем раскопок. Кстати сказать, над Форосом и начинаются «нагорные» стены.
Если в археологическом отношении южная часть Таврики еще мало изучена, то ее юго-восточная часть, что называется, terra incognita. До выяснения общей историко-археологической ситуации этого района еще очень и очень далеко. Сравнительно большая изученность античных, отчасти средневековых памятников на Керченском полуострове не меняет положения в целом. В археологическом исследовании юго-восточного Крыма мы видим как бы широкие провалы глубиною в несколько столетий; одним из них является труднейший для археологии (ибо он не оставил крупных и многослойных памятников) период V—VII столетий — промежуток времени «между гуннами и хазарами». Провал этот столь же широк и в западном Крыму — намного шире, чем в южной и юго-западной Таврике, а еще менее изучена крымская степь.
Все это вместе взятое не позволяет представить, хотя бы в предварительном виде, целостную картину раннесредневекового Крыма. Сейчас можно говорить всерьез лишь о ее подготовительных эскизах, о разработке деталей в этюдах, о набросках отдельных частей будущего полотна. Большие разведочные работы и раскопки на Южном берегу Крыма в 1958—1968 гг., в том числе и на территории Горзувит, относятся именно к этому начальному этапу работы.
Загадка страны крымских готов
Могли ли археологи не учитывать достоверное, хотя и не во всем ясное свидетельство такого автора, как Прокопий? Его добросовестность в изложении фактов неоспорима, несмотря на пристрастность политических и нравственных оценок. А по Прокопию выходит, что обе упомянутые им крепости были построены византийцами для себя, вероятно, на приморском краю «страны Дори» или по соседству с ней. Поэтому, если считаться с источником, то, говоря о юстиниановской крепости, никак нельзя обойти один из самых спорных вопросов крымского средневековья — вопрос о «стране или области по имени Дори» и ее обитателях, которых Прокопий называет готами.
Накануне Великого переселения народов древнегерманские племена, в том числе предки (правда, весьма отдаленные) готов Прокопия, были еще полудикими. Из-за попыток гитлеровцев присвоить себе имя по-фашистски «героизированных» готов возникло ходячее представление об этих племенах как о хищниках и насильниках, бесстыдно угнетавших своих более миролюбивых соседей. Согласно вульгарно-исторической схеме, они, покинув свою скандинавскую родину, толпами разбрелись по свету. Одна их ветвь потянулась на запад Европы, другая — на юг и на юго-восток. Варвары-готы доставили немало забот крупнейшим государствам своего времени, используя в своих выгодах их экономические и социально-политические неурядицы.
Однако «судьба» жестоко наказала готов за их якобы неспокойный нрав. Причиняя несчастья другим, они и сами претерпели много бед: например, интересующие нас в данном случае восточные готы (остготы) сильно пострадали от нашествия гуннов. В конце V в. остготы под предводительством короля Теодориха завоевали Италию (в конечном счете «покорившую» их самих). Тех же из них, кто мирно оставался в Причерноморье, видимо, ассимилировали более многочисленные этнические группы. Готы растаяли в людском океане, как щепотка соли в ведре кипятка.
Процесс миграции готов занял более трех столетий. В устройстве феодальной Европы сказалось некоторое влияние их примитивной государственности, а в культуре европейского средневековья остался почти неуловимый «готский» привкус. Многие буржуазные исследователи готов постоянно это подчеркивали и неизбежно впадали в панегиризм. И все же, кто бы мог подумать, что имя готов в XX в. станет для нас чуть ли не одиозным!..
Домыслы нацистов, стремившихся обосновать свои бредовые идеи, не должны ложиться тенью на историческую науку. Да и сами готы, давно исчезнувшие с лица земли, нисколько не повинны в бедствиях и преступлениях нашего времени. Были они такими же, как все люди той эпохи. И можно добавить, что их племенное название в ходе истории быстро лишилось своего первоначального этнокультурного значения: в этом отношении горстка крымских готов в VI в. была уже, так сказать, готами в кавычках.
Научная разработка вопросов происхождения и этнокультурных связей различных племен, населявших Европу в древности, не однажды подменялась попытками доказать «первородство» того или иного из современных народов этого континента. Так, в связи с этногенезом славян не раз обострялся вопрос о степени испы-тайных ими германских культурных влияний. Наиболее всесторонне и объективно этот сложный узел проблем рассмотрен в трудах крупного чешского ученого Любора Нидерле (1865—1944). Он отвергал оба крайних направления современной ему германистики и славистики, из которых одно, превознося доблести древних германцев, уделяло славянам роль подражателей и рабов, а второе видело всюду только славян и ставило знак равенства между восточными германцами (в том числе готами) и западнославянскими племенами. Благодаря трудам Л. Нидерле стало ясным взаимопроникновение культур германских и славянских племен, не только соседивших, но порой и сожительствовавших на одних и тех же территориях.
В наше время этот вопрос продолжает рассматриваться многими зарубежными и советскими учеными. Так, один из исследователей ранних готов польский археолог Е. Кмечинский пришел к заключению, что начало их миграции носило характер неорганизованного, относительно медленного и стихийного просачивания (инфильтрации) раздробленными группами в толщу других, прежде всего славянских племен, причем сопровождалось оно уже на этом этапе интенсивным культурным взаимодействием. Формирование же готов как силы единой и в социальном отношении организованной он видит лишь в самом конце их долгого пути — в IV—V вв. — в районах Причерноморья.
Сложный и вместе с тем органически слитный характер культуры обитателей Северного Причерноморья в конце эпохи Великого переселения народов не дает возможности четко выделить в ней собственно готский элемент. Впрочем, едва ли он дошел сюда нетронутым, да и вряд ли когда-либо существовал в «чистом» виде. Его не удается отделить от сармато-аланского, славянского и других элементов, среди которых он растворился. Это дало повод В.И. Равдоникасу рассматривать северопричерноморских «готов» как имя собирательное. Поэтому и весь этап развития культуры Северного Причерноморья, который протекал в V—VII вв., охарактеризован им как «готская стадия».
В послевоенное время этот же вопрос с позиций советской славистики рассмотрен в трудах Б.А. Рыбакова и П.Н. Третьякова. В частности, ими доказано, что некоторые типы древних изделий художественного ремесла (в том числе крымские, из Гурзуфа и близлежащих мест), приписанные зарубежной германистикой готам, в действительности славянского происхождения. Заметим, однако, что еще в дореволюционное время И.И. Толстой и Н.П. Кондаков, исследуя скифские и сармато-аланские корни культуры Причерноморья и Приазовья в эпоху Великого переселения, отмечали равную принадлежность ее как готам, так и их современникам гуннам, а в целом — тому смешанному многоэтничному населению, которое входило в эти племенные союзы.
Для полноты картины необходимо остановиться, хотя бы вкратце, на тех социально-исторических процессах, которыми была обусловлена миграция древних германцев.
Если во второй половине I в. до н. э., при Юлии Цезаре, разноэтничные древнегерманские племена находились на крайне низком уровне развития производительных сил и не знали общественного неравенства, то во времена древнеримского историка Тацита, жившего в конце I в. н. э., их родовой строй достиг уже той грани, на которой начинается классовое расслоение. Из знатных родов и наиболее состоятельных семей выделялась правящая верхушка в лице племенных и родовых старейшин, а также военных вождей. Роль последних все более возрастала благодаря сплочению вокруг них дружин, для которых война стала основным (и порой единственным) занятием.
Если причина перемещения целых деревень состояла в истощении пастбищ и невысоком уровне агротехники, который требовал частой смены пашен, то грабительские походы воинственных дружин облегчали своему роду или племени захват и освоение новых земель. Но при этом отнятые у жертв агрессии скот и рабы переходили в полную собственность победителей, а такое обогащение еще более возвышало их над простыми соплеменниками.
Объединения отдельных дружин для совместных походов содействовали возникновению межплеменных связей; в итоге временные группировки превращаются в постоянные военно-политические союзы. Во главе их в конечном счете мы увидим окруженных знатью королей, обладающих всей полнотой военной и гражданской власти.
Таким образом, миграцию готов можно представить как процесс двусторонний: вынужденное экономическими причинами переселение пахарей и пастухов, хранителей родовых традиций, сопровождалось неуклонным отделением от них знати с ее дружиной, знати, попирающей родовой уклад и создающей для себя иные традиции. Очевидно, в этой среде родилась та сага о знатном готском роде амалов, которую в VI в. развивал историк и панегирист готов Иордан.
Ко времени Прокопия Кесарийского социальное, а в какой-то степени, возможно, этническое обособление готской верхушки было уже настолько сильно, что взаимоотношения готов с прочими племенами, населявшими Северное Причерноморье, надо рассматривать преимущественно в классовом аспекте. Сармато-аланская знать охотно объединялась с готской, хотя, возможно, и оказывалась в подчиненном положении. Трудовой же слой готов, естественно, вступал во взаимоотношения и с течением времени слился с таким же слоем остального населения Причерноморья.
Если от походов готских дружин пострадали в свое время поселения всей, в том числе юго-западной, Таврики, то оседание горстки готов-земледельцев произошло не везде. В Крыму они, по свидетельству Прокопия, занимали «страну Дори». Фразу его о готах, не последовавших за Теодорихом в Италию, можно отнести к ним, как и ко всей той части готов-земледельцев, которая пускала прочные корни на землях Причерноморья (Малой Готией называет их Иордан) и не стремилась к участию в авантюрных походах завоевателей.
Не бросается ли в глаза, что Прокопий несколько неправдоподобно наделил жителей Дори одними симпатичными чертами? Филолог увидит и другое: Прокопий придерживается стародавней книжной традиции, использует своего рода стандарт, выработанный еще античными авторами, которым во многом подражает. Он постоянно приближается к ним в отрицательной и назидательной нравственно-критической оценке современного ему общества. Поэтому и у него в ряде сочинений «скверным» современникам как бы противопоставляются идеализированные образы мало кому ведомых «варваров», наделяемые всевозможными добродетелями.
И все же перед нами не чистый вымысел, не сплошная «ложь во спасение» — ради морального упрека неправедно живущим согражданам. Нет, Прокопий, как правило, никогда и ничего не выдумывает. Подобно своим античным образцам (например, Фукидиду), он выпукло освещает лишь те факты и черты характера, которые его привлекают или отталкивают. Из литературного же арсенала подобных характеристик он выбирает и заимствует готовые образы, выражения, сравнения, эпитеты, какие подходят для того или иного случая. Изучив эту особенность Прокопия-публициста, можно критически подойти к нему самому и извлечь из его хвалебных или хулительных высказываний немало ценной информации.
«Готы» страны Дори были народом по преимуществу земледельческим (о других занятиях источник не упоминает). Очевидно, какие-либо промыслы, домашние ремесла и прочие виды хозяйственной деятельности играли в жизни этих людей роль второстепенную. Крымские «готы» предпочитали «жить всегда в полях», а такой образ бытия мог обусловливаться лишь земледелием примитивным, связанным с частой сменой местожительства, например, подсечным, реальные следы которого в земле Таврики местами удалось вскрыть археологам.
«Готы» Прокопия обрабатывали землю «своими руками», т. е. не имели ни рабов, ни тем более какого-то слоя зависимых земледельцев в своей среде. Социальной нерасчлененностью «готов» можно объяснить и их неприязнь к замкнутым крепостным сооружениям; в таковых они, во-первых, при их образе жизни не нуждались, а во-вторых, подобные строения были, как правило, одним из следствий и атрибутов сильно развитого общественного неравенства. Патриархальный же уровень южнобережной готской общины ясен из всего, что говорит о них Прокопий, вплоть до замечания об их безграничном гостеприимстве. Убеждает в том и постоянная готовность «готов» сменить орала на мечи. Все эти пахари в то же время и бойцы — черта, по Энгельсу, характеризующая высшую ступень варварства. Они могли сохранить эту черту даже в VI в.: ведь южнобережная Таврика долгое время была почти изолированной от внешних влияний и переживала период застоя.
Судя по всему, в момент первоначального появления здесь готов (III в. н. э.) аборигенное население — тавры — стояло примерно на том же уровне общественного развития, что и пришельцы, а это могло способствовать их слиянию. Ведь этнические, культурные и даже культовые различия, хотя и значат для людей немало, постепенно стираются, если нет при этом антагонистических различий классового и политического характера.
Заслуживает внимания указание нашего источника на число «готов», выступавших, по мере надобности, на помощь византийским военным силам. Три тысячи бойцов — отряд по тем временам вполне достаточный для обороны труднодоступных и вдобавок укрепленных горных рубежей этой «страны». Общая численность населения Дори могла, конечно, в 5—7 раз превосходить число выставляемых от него бойцов. А много это или мало? Если такое количество людей (до 20 тысяч) сопоставить с возможными в данном случае размерами населенной территории, не выйдет ли слишком просторно и пустовато? По нашей современной мерке, столько могло бы насчитывать население какого-нибудь небольшого городка. Прокопий же, говоря о некой «стране или области», оперирует такими пространственными величинами, как расстояние от Херсона до Боспора. Помещая Дори где-то между ними, он не дает никакого обозначения пределов этой «страны», а они, несомненно, были, несмотря на то, что простора (и притом практически неограниченного) требовал, по-видимому, весь характер примитивного земледелия таврических «готов». Однако косвенные указания на размеры территории, местоположение и природные свойства области крымских «готов», по-видимому, можно найти в том же трактате Прокопия.
Дают ли эти указания возможность выполнить такую задачу, как проецирование данных источника на реальную местность?
Локализация в средневековой Таврике области, населенной в VI в. «готами», потребовала длительных исследований. При этом соображения, что именно и где искать, исходили из приведенного выше (стр. 8—9) текста Прокопия.
Начать предстояло с выяснения границ Дори. Для этого нужно было найти остатки или хотя бы вещественные следы ее пограничных укреплений — «длинных стен», о которых писал Прокопий. Это потребовало, в свою очередь, уяснения того, что собой представляли «стены» в техническом отношении, как внешне выглядели, где могли находиться. Понадобился кропотливый историко-филологический анализ не только данного отрывка и не только трактата «О постройках», но и других сочинений как самого Прокопия, так и авторов, упоминавших подобные сооружения до и после него.
Археология плюс филология
Перевод и научное комментирование древнего письменного источника — дело чрезвычайно хлопотливое. Суть его не только и не столько в сложности овладения языком. Трудно достижимая цель переводчика состоит в передаче такого именно понимания переводимого текста, в целом и в деталях, какое было у творца подлинника. Даже когда можно, казалось бы, удовольствоваться элементарным дословным переводом, не удается все же избежать затруднений, порой весьма головоломных.
Вспомните такие выражения, как «Сидорова коза», «во всю Ивановскую», «не в своей тарелке» и т. п. Подобные идиомы есть и в других языках. Но если бы трудности перевода сводились только к этому!
Загляните в толковый словарь русского или любого иного языка. Вы увидите: чуть не каждое слово истолковывается при помощи фраз, то есть других слов того же языка. Немалое число всевозможных терминов имеет по нескольку, порою существенно отличных, оттенков смысла Часто при этом в разные исторические эпохи одно и то же понятие выражается различными словами, и, наоборот, одно и то же слово приобретает разный смысл. Короче говоря, многие слова вполне понятны только в контексте, то есть в связном изложении. Так я в переводе: лишь очень продуманная и взвешенная фраза достаточно близко (и то не всегда) передает понятие, выраженное на ином языке одним-двумя словами. Всякий перевод — это одновременно и толкование подлинника. Поэтому возможны различные переводы, нередко вызывающие споры среди специалистов.
Вы, конечно, не раз видели античные колонны, украшенные сверху пышными завитками литой или резной зубчатой листвы — аканфа. «Коринфская капитель», — скажет, не задумываясь, каждый, кто хоть немного знаком с древней архитектурой. Если б мы не знали, что на профессиональном жаргоне древнеримских строителей такая капитель звалась «капустой», то так бы и переводили — «капуста». Удивлялись бы столь далекому от кухни применению огородного растения и, возможно, приписали бы древним небывалый обычай украшать этим овощем дворцы и храмы. А затем, чего доброго, у кого-то достало бы смекалки «открыть» какое-нибудь культовое или историческое значение мнимого обычая. Куда не заведет логика, помноженная на догадливость и эрудицию, если исходное представление о предмете ошибочно!
Говорится это не для того, чтобы обесценить в глазах читателя всякое предположительное суждение. Мы хотим лишь подчеркнуть, насколько должны быть проверенными и обоснованными отправные положения любых умозаключений и гипотез.
В нашем случае исходные точки исследования крылись в небольшом по объему тексте — отрывке трактата на древнегреческом языке. Сравните два перевода — Кеппена и Кондратьева, и вы поймете, в каком трудном положении оказались археологи, обратившись к этому источнику. Оба перевода в общем верны, но ни тот, ни другой не передают вполне нескольких чрезвычайно нужных нам деталей. Одни из них не привлекли внимания обоих переводчиков, названия других попросту непереводимы и нуждаются в комментариях. Все это и потребовало нового историко-филологического изучения текста, которое провела Э.И. Соломоник.
Как понять, например, определение местоположения «страны (или области) Дори», заключенное в словах: «там же»? На том самом берегу, где Алустон и Горзувиты, или вообще где-то в Таврике? Что такое пограничные укрепления Дори — «макра тейхе»? Это словосочетание не раз употреблено Прокопием в качестве некоего специального термина. Осторожный Кеппен, не найдя подходящего к случаю русского прилагательного, сказал просто: «стены» Кондратьев же перевел буквально: «длинные стены».
Видный русский ученый В.Г. Васильевский, пользуясь источником в оригинале, истолковал «стены» Прокопия как своего рода «засеки». Он так их и назвал, опираясь на некоторое сходство с русской засечной полосой, в первую очередь — близкое оборонительное значение системы этих стен и нечто общее в самом характере вытянутых в длину искусственных препятствий. И все же определение это непригодно, так как не выражает важной военно-технической стороны дела: «длинные стены» суть все-таки сложенные из камня стены, а не деревянные лесные завалы.
Ценнейший письменный источник, так сказать, не поддавался полному прочтению до той поры, пока не стало необходимостью понять, где, как и почему применялось в подлиннике название «макра тейхе». Для этого-то и надо было многократно проследить его употребление не у одного Прокопия, а у нескольких авторов.
В итоге такой работы кое-что удалось. Уточнено Военно-техническое значение термина «длинные стены» (которые в ряде случаев оказались совсем короткими): они служили преградами, но не оградами; они ничего не окружали, а лишь перегораживали уязвимые промежутки между естественными препятствиями, неприступными по своей природе; никогда так не назывались никакие замкнутые в себе укрепления. Такое понимание термина было проверено по сохранившимся сооружениям, обозначенным тем же термином у древних и средневековых авторов.
Составилось и более четкое представление о ландшафте Дори. Ведь ее описание у Прокопия, как и многое в трактате, ясное его современникам, для нас требует опять-таки не просто дословного перевода, а некоторой расшифровки.
Своего рода «примерка» уточненных исходных данных на археолого-топографическую обстановку средневековой Таврики вошла в археологическую часть задачи. Ее сильно облегчило достаточно ясное указание Прокопия на соседство этой области с Горзувитами и Алустоном, а также весьма прозрачные намеки на военно-политическую зависимость Дори от этих (а может быть, еще и других) византийских укреплений на побережье между Херсоном и Боспором.
Судя по всему, «Дори» Прокопия занимала незначительную территорию. Но, как бы ни были малы размеры этой «страны-области», вопрос о ее местоположении чрезвычайно важен для понимания всей раннесредневековой истории Крыма.
..плюс топография
Вопрос о том, где находилась Дори, был поднят давно — в 30-х годах прошлого века. По сей день он не перестает занимать историков и археологов. С самого начала наметилось два варианта локализации стен, ограждавших Дори. Один из них принадлежит П.И. Кеппену, который связывал Дори с южным побережьем подобно Алустону и Горзувитам. Сторонники второго варианта, отталкиваясь от некоторых неосторожных высказываний Дюбуа де Монпере, помещали ее ближе к Херсону — в юго-западном предгорье Крыма. Разумеется, каждый из вариантов имел определенное обоснование. Кеппен полагал, взвесив высказывания Прокопия и хорошо зная местность и памятники, что стены преграждали горные перевалы, через которые идут дороги из предгорий Крыма к поморью. Дюбуа предположил (поверхностно зная Крым и не очень-то считаясь с терминологией, а значит, и общим смыслом того же известия), что Прокопий подразумевал под «большими стенами» ряд укреплений в юго-западном Крыму на останцах Второй горной гряды (большинство их известно теперь под названием «пещерных городов»).
Случилось так, что второй взгляд надолго возобладал над первым. Хорошо сохранившиеся, доступные для осмотра укрепления в предгорьях юго-западного Крыма затмили и заставили забыть развалы камней — остатки примитивных «нагорных стен», как называл их Кеппен, затерянные где-то в лесных дебрях. Затем, вследствие слабой изученности всех вообще памятников крымского средневековья, возникла и стала беспрепятственно развиваться в целом ряде чисто кабинетных трудов идея о «таврическом римско-византийском лимесе» (укрепленной полосе) вокруг Херсона и будто бы связанных с ним «длинных стенах» юстиниановского времени, отождествляемых с «пещерными городами» и другими укреплениями в предгорье юго-западного Крыма. Эта «парообразная» концепция выросла, как облако, но — подчеркнем — не на результатах полевых исследований, т. е. не на твердой фактической основе, а лишь на общеисторических соображениях, на более или менее близких аналогиях, на весьма приблизительном картографировании и, главным образом, на логических умозаключениях, исходивших опять-таки больше из остроумных догадок, чем из фактов. Все эти чисто умозрительные построения выглядели хорошо, но лишь до поры до времени, пока не начали поступать противоречащие им фактические данные разведок и раскопок.
Выяснилось, во-первых, что средневековые укрепления Таврики, якобы входившие в мнимый юстиниановский лимес, разнохарактерны (города, замки, монастыри) и возникли в разное время — в пределах V—XV вв. Оказалось, во-вторых, что «нагорные стены» — как известные Кеппену, так и обнаруженные после него — могут датироваться временем не позднее VIII—IX вв., когда они были разрушены. Характер же «нагорных стен» точно соответствует термину «длинные стены» (как понимал его Прокопий). Они-то и составляли действительно единую оборонительную систему, очевидно, направленную на защиту побережья от обитателей северной Таврики. Кроме того, вся археологическая и топографическая картина на перевалах и побережье совпадает с описаниями Прокопия, если их прочесть, изучив предварительно лексику этого автора.
Многолетние поиски «длинных стен» и «страны Дори» представляют собой, по существу, археолого-топографическое исследование, в котором все основано на крупномасштабных картах и топосъемках. Оно и завершается теперь археологической картой средневековой Таврики.
В какой-нибудь другой книге этой же серии будет показан весь ход и конечные результаты многолетних археологических разведок. Кто только не был в них втянут! Загадка «утерянной» страны хоть кого заинтересует и сделает следопытом. Незаметная армия краеведов — учителя и школьники, рабочая молодежь и студенты, колхозники и агрономы, землеустроители и лесники, чабаны и охотники, — десятки людей разных возрастов и профессий внесли свой вклад в розыски археологических памятников, в том числе «длинных стен» Прокопия. Благодаря им археологи, несмотря на нелегкие условия самой местности — «сильно пересеченной», как говорят топографы, — относительно легко совершили именно то, что казалось безнадежно трудным: выявили сильно разрушенные памятники и охватили одновременным обследованием весьма обширные, заросшие лесом пространства горного Крыма. Куда труднее оказалось для некоторых археологов преодолеть свои же предубеждения, исправить застарелые ошибки, отказаться от привычных точек зрения и «окончательных» выводов.
Вернемся, однако, поближе к Гурзуфской крепости, пережившей «страну Дори» на целое тысячелетие. Зная, что эта крепость, как сообщает Прокопий, была в VI в. построена рядом с Дори, и убедившись в том, что из всех укреплений средневекового Крыма только стены на перевалах Главной горной гряды соответствуют «стенам» Прокопия, мы присоединяемся к кеппеновской, т. е. южнобережной, локализации этой страны.
Надо иметь в виду, что такая локализация еще не во всех деталях завершена. Что верно, то верно: археологическая топография останется топографией, стены на перевалах как будто те самые «длинные стены», ландшафт подходящий, местоположение Дори на побережье соответствует ему и обрисованной Прокопием исторической обстановке VI в. — все, казалось бы, сходится с источником. Но до сих пор еще не решена загадка: где они — неуловимые «готы» Прокопия? Где следы тех, которые были «превосходны» в военном деле, «гостеприимны больше всех людей», обрабатывали землю «собственными руками», прослыли «достаточно искусными земледельцами», «любили жить всегда в полях» и отстаивали от врагов свою землю, гористую, но приносившую «самые лучшие плоды»?
Поиски реальных следов обитателей Дори «на этом побережье» могут, конечно, стать специальной исследовательской темой, и в ней сольются по меньшей мере три задачи: историко-филологическая, археологическая и палео-этнографическая. Специалисты, которые будут над этим работать, имеют возможность начать с обобщения большого материала, накопленного от случая к случаю, но зато за долгое время и при том уже в какой-то степени систематизированного.
Все это еще впереди, а пока приходится признать, что на нынешнем уровне знаний о древностях Южнобережья нельзя уверенно приписать готам Прокопия какие-либо древние поселения или хотя бы отдельные жилища. Многочисленные в Гурзуфе и его ближайших окрестностях следы жизни прошлых эпох обычно относят либо к более раннему времени — первым векам н. э., либо к VIII— IX и последующим. В то же время, как увидим ниже, в Гурзуфе и вокруг него есть большие могильники, относящиеся к VI—VII вв. Не покажется ли странным или даже маловероятным такое явление? Чем объяснить его, если в самом деле такова действительность? И, наконец, такова ли она?.. Чтобы дать ответ на эти и ряд других недоуменных вопросов, необходимо обратиться к тому обширному и разнообразному материалу, о котором речь шла выше.
Представляем на суд читателя часть этого материала, изложенного в самых общих чертах, насколько необходимо в данной книге.
В округе Горзувитской
И так, крепость была построена «в Горзувитах», — переводит Кондратьев; «в округе Горзувитской» — так понял то же место подлинника Кеппен. Значит, поселение старше, чем она. А почему Прокопий употребляет его название во множественном числе? Нельзя ли из этого заключить, что крепость возникла на уже обжитом месте? Что Горзувитами сначала могли называться несколько поселений, стоявших близко друг к другу, а затем слившихся в одно целое?..
В более поздних источниках есть и неизвестные пока Курусаиты, в которых можно видеть одну из позднейших модификаций слова Горзувиты. Однако наиболее прочно живет все же самая старая форма названия этого пункта, которая легко угадывается в современном топониме Гурзуф. К сожалению, вопрос о Горзувитах, как и о других топонимах Таврики, исторически немаловажный, пока почти не разработан ни с лингвистической, ни с археолого-топографической стороны.
Рядом с Гурзуфом
По имеющимся данным, вокруг Гурзуфа, как и вообще на южных склонах Главной горной гряды, совсем или почти нет средневековых поселений ранее VIII—IX вв. Только у самого моря археологическими разведками и раскопками были выявлены остатки нескольких населенных пунктов с жилыми, хозяйственными и оборонительными постройками. Например, в 1950 г. А.Л. Якобсон провел археологические раскопки на плоском широком пустыре между двумя пионерскими лагерями Артека и обнаружил там основания базилики VI в. с разновременными могилами, а также остатки поселения, близкого ко времени Юстиниана I и Прокопия.
Небольшие приморские поселения раннего средневековья, изучавшиеся в 1958—1968 гг., состояли из крохотных усадеб — клочков обрабатываемой земли возле домов на мелких искусственных террасах, подпертых крепидами из дикого камня. Одно из поселений, возникших относительно рано, исследовалось в 1963 г. одновременно с Гурзуфской крепостью. Оно расположено под юго-западным склоном Аю-Дага недалеко от мыса, сильно выступающего в море, — как бы на правом плече этого звероподобного лакколита.
Значительный кусок поселения разрушен широким оползнем; по-видимому, им снесена часть мощенных булыжником улиц и крепид, уничтожены какие-то постройки. Уцелели остатки 50 довольно больших домов с толстыми (до 90 см) стенами, сложенными из обломков диорита на глине и в свое время оштукатуренными изнутри и снаружи. Судя по разной толщине стен, некоторые жилые постройки имели два этажа. Нижний состоял в большинстве случаев из одного четырехугольного помещения, реже — из двух. Кровли даже самых бедных домов, как правило, были черепичными.
На миниатюрных террасах, окруженных каменными заборами, росли возле домов инжир, виноград, маслина, кевовое дерево. Одичалая корневая поросль культурных растений давно пробилась сквозь нагромождение камней от рухнувшего когда-то на это селение горного обвала. К нашему времени она уже состарилась и отмирает, дав начало непролазным зарослям, среди которых теперь преобладают дикорастущие деревья и кустарник. Сквозь колючий кустарничек — иглицу — видна каменная осыпь, что сплошь покрывает руины. Отдельные постройки придавлены насевшими на них каменными глыбами. Судя же по возрасту дубов и можжевельников, растущих прямо на развалинах, поселение заброшено около 500 лет назад. О том же свидетельствует обильный керамический материал, в целом датируемый временем не позднее XV в.
В 1963 г. тут были проведены зачистки строительных остатков, шурфовка и топосъемка. Частично раскопаны два больших жилых дома VIII—XII вв. На протяжении столь длительного времени обе постройки претерпели много мелких и крупных переделок, были трижды основательно перестроены. Несмотря на это, основные размеры зданий оставались почти неизменными.
Планировка артекского поселения в целом тоже сохранила свой первоначальный вид. Узкие улицы, дома вдоль них и тесные дворы расходились в стороны от площади, о размерах которой теперь можно только гадать: море оставило от нее лишь северо-восточный край, где на самом обрыве выступает ряд крупных, хорошо обработанных камней, в которых угадываются остатки какого-то большого здания, может быть, храма.
В северо-западном конце поселения сохранились следы двух железоделательных мастерских, работавших на древесном угле. В одной из них найдены обломки сильно изъеденного ржавчиной якоря, в другой — скобы, гвозди, мелкие и крупные кольца, бесформенные куски каких-то иных железных предметов.
В культурных отложениях за несколько столетий скопилось множество рыбьих костей, в том числе белуги, осетра, а более всего камбалы. Немало и раковин устриц и мидий, часто встречаются крабьи панцири и клешни, красные от варки или печения на огне. Среди пищевых отбросов раннесредневекового времени почти отсутствуют кости домашних животных и птицы. Позднее появляются и они, но до самого конца XV в. все же преобладают отбросы морского происхождения. Море давало основную пищу обитателям поселения; все их существование было связано с морскими промыслами и корабельным делом.
Позднее X в. заметную роль в жизни поселения стала играть торговля. В керамическом материале разного времени, поднятом при раскопках, преобладают обломки торговой тары — амфор, много также привозной посуды XII—XIV вв.
Поселение постепенно богатело, людей в нем становилось больше, но оно не расширялось, теснясь все на том же клочке земли. Изучение строительных остатков показало, что жилые дома обрастали пристройками, большие помещения неоднократно делились перегородками. На северо-западной стороне артекского поселения сохранились развалины толстой (около 2,8 м) ограды, видимо, ограничившей его рост. Конечно, стена возникла не зря: видно, обитателям поселения жилось неспокойно — в далеко не дружественном окружении. Это подтверждают и наконечники стрел, найденные у самой ограды.
Книга была вчерне готова, когда поступило неожиданное сообщение о том, что выше остатков артекского поселения на труднодоступных обрывах случайно обнаружены неизвестные развалины каменных сооружений, средневековая черепица, обломки глиняной посуды и найдена золотая византийская монета с изображением императоров Василия I и Константина (869 — 879). Обследование выяснило, что это такие же и того же времени постройки, что и описанные выше, только из числа наиболее мелких. По-видимому, здесь была окраина поселения; по мере роста оно громоздилось кверху, на неприступные участки склона. Обвал произошел ниже этих хижин, оказавшихся из-за него на краях обрыва. Около четвертой части поселения, вместе с рухнувшими скалами, свалилось на дома нижней террасы, добрую половину которой, как уже говорилось, одновременно оторвал и унес в море большой оползень.
Наиболее ранняя керамика из верхних хижин относится в основном к VIII—IX вв., хотя тут же найдены обломки посуды, которую можно датировать и намного более ранним временем. Привлекают внимание обломки лепных горшков, частью напоминающих глиняные изделия тавров, частью «скифоидных», похожих на посуду скифо-сарматских племен Поднепровья и Крыма I—II вв. н. э. Такие находки на Южном берегу Крыма уже не редкость. Имеется немало случаев (и они, видимо, закономерны), когда даже в однослойных отложениях не удается четко отделить не только лепную, но и гончарную позднеантичную керамику от раннесредневековой. Залегают же эти сложные группы материалов зачастую вместе с обломками довольно примитивной лепной посуды. Будь она тут одна, ее можно было бы отнести чуть ли не к первым векам до нашей эры.

Золотая византийская монета IX в. из артекского поселения.
Все это пока не дает права делать какие-либо исторические выводы, но настораживает и заставляет лишний раз подумать над вопросом о смешении и взаимопроникновении (синкретизме) различных культур на Крымском полуострове, принимавшем в среду своих аборигенов одних пришельцев за другими. Таврика была как бы копилкой этнокультурных вкладов каждого из них. Географическая же замкнутость отдельных мест полуострова служила одной из причин длительного сохранения культурных, а в особенности бытовых и культовых пережитков.
С верхней окраины артекского поселения, по тропинкам, заросшим и почти неприметным, — «стезями беспутными», как однажды в аналогичном случае выразился Кеппен, — можно не без труда вскарабкаться еще выше и выйти на лесную дорогу, которая ведет к развалинам целого ряда средневековых памятников — заградительных стен, жилищ, храмов и других построек, в том числе монастырских. Они расположены на самой вершине, на седловинах, на южном и восточном овражистых склонах Аю-Дага.
На территории курортного поселка Фрунзенское (б. Партенит) и примыкающем к нему с северо-востока холме Тепелер, на мысе Плака и горе Ай-Тодор (св. Федор), у села Малый Маяк, вокруг Ай-Тодора и Парагельмена, на хребте Урага, между ними и горой Кастель, на склонах и вершине последней, к северу от нее до подножия гор, а также к востоку, до Алушты и Сотеры включительно, археологическими разведками прослежены более или менее значительные остатки деревень и укреплений VIII—X вв..
Именно в этих местах наиболее часты слабые, но не вызывающие сомнений признаки более ранних поселений, вплоть до позднетаврских. В керамике последних, в основном лепной местной, имеется примесь привозной гончарной — эллинистической и римской. Как по новым данным, так и по свидетельствам ранее работавших исследователей, здесь обнаружены и обломки раннесредневековых сосудов, целые и разбитые каменные архитектурные детали V—VI вв. Встречались также монеты Юстиниана I, его ближайших предшественников и преемников. В тесном же соседстве с Дженевез-Кая, между нею и Аю-Дагом, имеются остатки еще по крайней мере двух поселений подобного типа и близких по времени — в основном VIII—IX вв., но с примесью более ранних материалов. Одно из них находилось на холме, некогда принадлежавшем владельцу имения «Суук-Су», второе, раскопанное А.Л. Якобсоном (см. стр. 34), — на юго-восточной окраине современного поселка.
К юго-западу от Гурзуфа, близ мыса Ай-Даниль (св. Даниил), было расположено еще одно некогда крупное средневековое поселение. Его остатки уже исчезают под натиском стихийных сил, но и не без участия человека. В давние времена оползни разорвали поселение на куски, отделили их друг от друга, опустили на разные уровни и многое сбросили в море. Делювий похоронил все то, что осталось от жилищ и хозяйственных построек. В наше время курортная застройка, планировка и распашка склонов под виноград, табак, лаванду, казалось бы, довершили разрушение памятника. Однако совсем недавно в одном из свежих срезов грунта — при выравнивании склона для строительной площадки — вдруг показались, чтобы вскоре исчезнуть под новой осыпью, остатки какого-то большого хозяйственного комплекса — желобчатые пифосы, стоявшие в ряд у основания средневековой стены. В других обнажениях и на вспаханных полях обычно можно встретить обломки не только средневековых, но и позднеантичных амфор, а также иных сосудов вместе с черепками лепной — черной или серой — керамики.
Айданильское поселение, стало быть, существовало издревле и всегда как бы замыкало Гурзуфскую котловину с юго-запада.
Между Гурзуфской и Партенитской котловинами, где ныне проходит дорога в Горный лагерь и поселок служащих Артека, в незапамятные времена был террасирован при помощи грубых каменных кладок весь склон Аю-Дага. Тут много средневековой гончарной керамики, смешанной с неопределенно датируемой лепной. Эти отложения перекрывают более древний слой, в котором в 1963 г. обнаружены целые залежи черепков таврской, а также эллинистической и римской посуды.
То, что здесь было некогда поселение (предположительно позднетаврское, IV—I вв. до н. э. — первых веков н. э.), подтверждают террасы с крепидами и следы жилищ на них в виде погребенных в земле скоплений золы, обломков печины, костей, черепков. Несомненно, к нему относились и каменные ящики в бывшем имении «Артек» и на холме Тоха-Дахыр. Обе группы этих гробниц еще видел Н.И. Репников, но одна из них безвозвратно утеряна вследствие современной застройки Артека.
Средневековое поселение использовало те же террасы, но простиралось несколько шире и южнее по всему юго-западному склону Медведь-горы и ближайшим на запад холмам, оставив там памятью о себе многочисленные сильно задернованные и заросшие лесом остатки каменных кладок, местами — плитовые могилы. Без раскопок, по одному подъёмному материалу, трудно определить хронологический разрыв, который, быть может, разделял поселения позднеантичного и средневекового времени. Не исключено, однако, что такой грани попросту не существовало: поселение могло быть многослойным и непрерывным.
Поля, виноградники, перелески на горных склонах, подковообразно огибающих Гурзуф и село Краснокаменку (б. Кизилташ — Красный камень), обследованы пока лишь в порядке рекогносцировок. Здесь во многих местах встречена разновременная, в том числе и раннесредневековая, керамика. Выше Краснокаменки, над ручьем, берущим начало от самого подножия яйлы, выделяется на фоне леса обозреваемый со всех сторон каменный «барабан» — отторженец Главной гряды, на котором в VIII—IX вв. было расположено маленькое дозорное укрепление. Под ним приютилось небольшое поселение — при дороге с перевала Гурбет-Дере-Богаз (современное Гурзуфское седло) к морю. Ниже, на северной окраине Краснокаменки, на отдельном ржавого цвета утесе (собственно Красном камне) сохранились остатки ворот и стены, перед которыми еще стоят развалины предвратной башни. Это — укрепление Гелин-Кая («греческая скала»?), более позднее, чем Гурзуфская крепость.
В итоге возникает вопрос: почему вокруг Гурзуфа, да и на всем остальном побережье, нет явных остатков деревень VI в.? Ведь если в других местах Южнобережья археологические материалы V—VII вв. отсутствуют или попадаются очень редко, то здесь они как бы концентрируются и встречаются значительно чаще. Правда, и тут их относительно немного. К тому же черепки черепками, а жилища? Куда подевались остатки или хотя бы следы ранних поселений? Надо, по-видимому, предположить одно из двух (или вместе то и другое): во-первых, остатки эти могут скрываться глубоко под оползневыми или делювиальными наносами, какие на Южном берегу похоронили под собой не один археологический памятник; во-вторых, следы поселений могли и не сохраниться в привычном для нас состоянии, т. е. в виде развалин или фундаментов каких-то строений. Ведь люди, часто менявшие местожительство в связи с быстрым истощением земледельческих угодий, едва ли строили долговременные и основательные жилища из камня. Не довольствовались ли они мелкими хижинами из жердей, плетня и глины? При разрушении таких эфемерных построек на склонах, подверженных смыву и оползням, не осталось бы заметных и прочных следов. Впрочем, это всего лишь предположение.
Обломки небогатой варварской посуды из открытых на Южном берегу Крыма и датируемых VI—VII вв. погребений часто нелегко отличить от обломков лепной керамики более раннего времени. Орудия труда и оружие тоже мало отличались как от более ранних, так и от несколько более поздних. Наиболее же четкое представление о таврических готах времени Юстиниана дают украшения и детали одежды, характерные именно для VI—VII вв. и, видимо, тогда, что называется, модные.
Мы не случайно применили столь современное слово к вещам, которые были в ходу так давно. Отступим в сторону еще раз и посмотрим, что такое мода в археологическом понимании этого слова.
Мода и стиль
Общечеловеческое явление, столь же не чуждое средневековым людям, как и читателям этой книги, — мода — рассматривается археологами как совокупность признаков, наиболее часто встречающихся в какой-либо группе вещей, более или менее близких по времени. Это не противоречит обычному взгляду на моду как на проявление вкусов, господствующих в тот или иной момент во внешних формах быта, например одежде. Ведь именно в них археолог видит непосредственную причину возникновения изучаемых им вещественных признаков. Но ему приходится учитывать и всю относительность этого понятия: ведь можно в одном случае, например, в ателье индпошива, говорить о моде ближайшего сезона, а в другом — таком, как наш, — речь пойдет о моде целой эпохи.
Были ли моды далекого прошлого устойчивее современных? Может быть, на раннем этапе развития человечество еще не ведало моды в нашем обыденном смысле этого слова? Как знать! У первобытных людей, кроме «одежды» — набедренной повязки, передника из травы или лыка, — были в ходу перья, ожерелья из раковин, пестрые шкуры и, наконец, раскраска собственной кожи. Все это имело, конечно, определенное магическое значение. Но ведь и в наше время сутана или ряса служителя культа, богослужебные ризы, «священные» сосуды, да и облачения самого божества в немалой степени подвержены влиянию изменчивых господствующих вкусов.
Правы ли те, кто видит в ухищрениях моды (в обычном смысле слова) лишь одно: стремление привлечь к себе взоры окружающих и не отстать от того, кому это удается? Присмотритесь внимательней: так называемая «обычная» мода не выходит за рамки того, что можно назвать модой исторической. Историческая же мода — явление относительно долговечное, регламентированное не только живым обычаем («приличиями»), но и овеянное традицией. Вытекая из единого для большинства членов общества строя идей, она на каком-то отрезке времени может даже охраняться государством. Попробуйте, например, представить себе, как отреагировала бы современная публика на появление ваше в общественном месте— не на пляже, а, скажем, на улице или в театре — в одной набедренной повязке. Это был бы не лучший из способов обратить на себя внимание. Не сомневаемся, что милиция, разделяя господствующие вкусы, мягко, но настойчиво воспротивилась бы такому анахронизму.
Из сказанного не следует ли, что мода — явление архисоциальное? Как таковое, она — порождение Истории, a потому иногда может послужить объектом археологического изучения.
Прежде чем покончить с этим экскурсом — чтобы он не завел уж очень далеко от Горзувит и «готских» деталей туалета горзувитян, — взглянем все же еще раз на какое-либо из знакомых нам проявлений моды. Мы увидим, например, что мода нашего времени без конца повторяет немногочисленные варианты мужских (а теперь и дамских) брюк, идея, конструкция и основные детали которых унаследованы от штанов глубокой древности. Генеральские лампасы и те не новы — скифские вожди носили такие же на своих штанах-анаксиридах!
Однако, хотя штаны и свойственны одежде на безграничном пространстве Европы и Азии в течение столетий, покрой их, материал, форма пуговиц, пояса, пряжки и прочее далеко не одинаковы и довольно переменчивы. Они, как и любая вещь, способны рассказать о месте и времени пошива, о профессии и образе жизни их владельца, о его характере и социальной принадлежности.
Сказанное относится и к одежде средневековых людей, в том числе горзувитян, кстати, тоже носивших штаны. До нас, как уже говорилось, дошли такие характерные конструктивные и в то же время декоративные детали их костюма, как «пальчатые» фибулы (заколки плащей), «соколиные» поясные пряжки и пр. Растительные мотивы на фибулах и пряжках «типа Суук-Су» были модными в VI—VII вв., но находят свои прототипы и в более ранней североевропейской и позднеантичной (тоже в свое время модной) орнаментике. Человеческие физиономии на этих вещах похожи на античные маскароны Боспора и Скифии и в той же мере напоминают изображения скандинавских и славянских языческих божеств. Зооморфные же мотивы этих украшений трудно сказать к чему ближе — к отображению животных в скифском, сармато-аланском, древнеиранском искусстве или к тем причудливым растительно-звериным образам, какие можно сыскать в костяной и деревянной резьбе и торевтике крайнего северо-запада Европы.
В таких же или родственных в художественном отношении изделиях из других мест Таврики отразилось своеобразное развитие художественного стиля, не без некоторых, хотя и слабых оснований названного «готским». В Крыму наиболее ранние вещи этого стиля, изготовленные на Боспоре в IV—V вв. н. э., относительно быстро проникали на территорию собственно Таврики. Эти широко известные вещи неоднократно рассматривались в специальных трудах. Позволим себе остановиться в связи с ними на одном вопросе, разработка которого опирается на подобные археологические памятники. Попробуем охарактеризовать в общих чертах историко-художественное явление, охватившее всю раннесредневековую Европу и ярко представленное в Крыму. Связанное с именем готов, оно имеет прямое отношение к Горзувитам и горзувитянам.
Известно, что характернейшая декоративная особенность готских ювелирных изделий — применение своеобразно стилизованных «звериных», точнее фаунистических, а также растительных и антропоморфных мотивов в сочетании с геометрическими вставками в виде прикрепленных к орнаментированным пластинам металлических гнезд, заполненных цветным стеклом или кусочками самоцветов При широчайшем всеевропейском распространении подобных вещей нелегко ответить на вопрос: что же явилось собственно готским вкладом в художественный стиль этих украшений?
Давно прослежено (и в этом нетрудно убедиться), что свойственные таким вещам пышные и яркие стеклянные или альмандиновые инкрустации проделали в ювелирном искусстве далекий и долгий путь от древних сармато-аланских изделий античной поры до позднеримской и ранневизантийской торевтики. Благодаря ей эти варварские красоты стали широко популярными на всей периферии тогдашнего культурного мира.
Звериные мотивы были не менее существенным элементом в вещах развитого готского стиля. Изображения животных на деталях и украшениях одежды, надо полагать, и в раннем средневековье (так же, как в более далекой древности) олицетворяли силы природы, поклонение которым уходит корнями в языческие верования любых варварских племен. Заупокойный обряд в раннесредневековых южнобережных могильниках — христианский (присутствуют нательные кресты), однако инвентарь многих погребений южной Таврики вплоть до XII—XIII вв. отражает и суеверия язычества, включая употребление звериных символов как «оберегов» от нечистой силы.
Распространение на огромных пространствах Европы вещей единого стиля было возможно при широком заимствовании и варьировании общеизвестных форм изделий, принятых в качестве художественного образца. В то же время налицо и повсеместно наблюдаемые различия, существующие в этих вещах. Стереотипной была, конечно, конструкция какой-либо фибулы или пряжки, но одинаковые, на первый взгляд, очертания, декоративные вставки, орнаменты, зооморфные или антропоморфные детали декора достаточно разнообразны. Лишь иногда можно уловить повторения одного оригинала-образца с более или менее широким ареалом распространения. Чаще же увидим синхронные варианты каких-либо типов, тяготеющих к определенному району; порою их можно расположить в ряды, убедительно показывающие хронологическую эволюцию исходного типа.
Иными словами, есть все основания считать, что украшения готского стиля выделывались и употреблялись в разных местах Европы. Одни мастерские при этом достигали уровня своего рода художественных центров, где шла выделка оригинальных произведений ювелирного искусства, другие могли лишь дублировать те или иные образцы, третьи, быть может, совмещали оба вида деятельности.
Фибулы, бусы, серьга и браслет из раскопок в Гурзуфе (нажмите на фото для увеличения).
В конечном же результате как бы само собой сложилось художественное единство в огромном, необъятно широко распространенном ассортименте всевозможных и лишь на первый взгляд однообразных металлических украшений и деталей одежды, оружия, конской сбруи и проч. Оно-то и было определено в дореволюционной науке термином «готский» стиль. Однако уже и тогда многие исследователи видели в нем скорее стиль, порожденный всей в целом переходной эпохой Великого переселения народов.
Выявлению сармато-аланской струи в материальной культуре готов Северного Причерноморья (особенно в произведениях художественного ремесла) посвящены работы В.В. Кропоткина, В.К. Пудовина и ряда других авторов. «Готская» проблема постоянно и повсеместно выплывает не одной, так другой стороной при изучении локальных групп вещей и отдельных предметов того же круга и времени. Вот почему актуальность дальнейшего исследования этого всеевропейского стиля отнюдь не ослабевает, а скорее усиливается.
Распространение стиля могло происходить, конечно, при условии интенсивного перемещения самих изделий от каждого из центров на периферию и из одного района Европы в другой, что, в свою очередь, предполагает как переселение владельцев подобных вещей, так и торговый обмен. К выяснению этих связей и «маршрутов» устремлены с прошлого века по сей день многие попытки ученых. Естественно, это очень важно, хотя не так-то и легко, — проследить направления, по которым передвигались готские ювелирные изделия от основных (но тоже еще проблематичных) центров их выделки.
В силу всего вышесказанного такие вещи могут послужить наглядным связующим звеном, без которого, между прочим, были бы мало убедительными умозаключения об исторических связях населения стран Европы в эпоху раннего средневековья. Без этих вещей выглядели бы лишенными реальной основы и любые предположения о межплеменных этнокультурных взаимоотношениях, о происхождении или родстве племен, сменявших друг друга на территории Крыма в эпоху Великого переселения.
Многие из готских украшений, например, отдельные фибулы V—VI вв., еще, как правило, обременены грузными вставками из цветной силикатной пасты, стекла, пурпурного и лилового альмандина, других драгоценных или полудрагоценных минералов. В орнаментации и форме вещей VI—VII вв., как уже говорилось, таких инкрустаций меньше, с ними не всегда органично сочетаются растительные, антропоморфные и зооморфные символически-декоративные мотивы, причем явно преобладают «звериные». Фигуры львов на щитках застежек, птичьи и змеиные головки на «пальцах» фибул или концах браслетов, соколиная голова с цветным глазком и хищно изогнутым клювом на больших пряжках женских поясов — таковы обычные сюжеты этих массивных ювелирных изделий.
Продвигаясь по Северному Причерноморью далеко на запад, многие племена и народы эпохи Великого переселения, в том числе готы, гунны, а более всего те же аланы, присоединявшиеся и к готам, и к гуннам, по-своему перерабатывали и обогащали популярные во всем варварском мире полихромные, зооморфные, растительные украшения. Они же и разносили их по самым отдаленным углам Европы.
Возвращаясь к вопросу о населении раннесредневекового Южнобережья, нельзя не отметить, что вещи, по которым можно судить об этом населении, дали в основном средневековые кладбища «округи Горзувитской».
Могилы горзувитян
Научная необходимость почтительно тревожить останки давно усопших людей вызывается потребностью археологического изучения таких глубоких сторон человеческого бытия, каких не откроет ни один письменный источник. Устройство могилы, вещи, извлеченные из погребения, сам человеческий костяк — все это подвергается тщательному изучению. Добытые археологами сведения позволяют судить об этническом происхождении, поле, возрасте и личности погребенного, о времени его жизни и смерти, верованиях, обычаях, профессии, образе жизни… Без раскопок могильников было бы однобоким изучение древних поселений и никогда бы не были раскрыты важнейшие черты далеких исторических эпох.
Ювелирные изделия готского стиля из могильников Суук-Су и Балготы (как и Чуфут-Кале, Баклы и др.) имеют для нас двоякое значение. Во-первых, они ярко показывают, что в раннесредневековый период Таврика, говоря словами А.Л. Якобсона, «очень существенно отличалась от тогдашнего Херсонеса, переоценка культурной роли которого неминуемо ведет к искажению общей исторической картины». Во-вторых, могильники с этими вещами не менее ярко оттеняют столь же существенные этнокультурные, социально-экономические и политические различия между Таврикой VI—VII вв. и Таврикой несколько более поздней — периода иконоборческих смут и хазарского нашествия.
Гурзуфские могильники по своему местоположению могут быть связаны с описанными выше (стр. 34—43) поселениями. Быт и культура последних, при всей варваризации, имели греко-византийские черты, выдающие преимущественно греческое происхождение их жителей рыбаков, мореходов, быть может, торговцев. Однако могильники эти вряд ли могли целиком принадлежать жителям приморских поселений. Пышные полуязыческие погребения были оставлены, скорее всего, представителями охристианившейся знати «союзных» Византии варваров, т. е. тех, кого Прокопий именует готами. Хотя он и говорит, что готы «любят жить всегда в полях» и не терпят жизни в поселениях, окруженных стенами, социальная верхушка их, по-видимому, уже в VI в. тяготела именно к оседлым поселениям цивилизованных греков-византийцев. С течением же времени развивался, конечно, процесс неизбежной византинизации как социальных верхов, так и низов всего местного населения.
К VIII столетию процесс этот настолько ускорился и зашел так далеко, что привел, как мы видели, к появлению постоянных и многолюдных поселений. Это сопровождалось глубокими изменениями в самом образе жизни обитателей побережья, резкими переменами экономического и социального характера.
Каковы же были причины этих перемен?
Давнее соприкосновение обитателей Южнобережья с античной цивилизацией не могло не оказать стимулирующего воздействия на их быт и культуру. Оно-то и подготовило Таврику к принятию всего, что принесла сюда Византия. Однако всеобщий характер и, главное, быстрота византинизации, охватившей в VIII—IX вв. все южное побережье, свидетельствуют о том, что был в это время и некий толчок извне, который сразу изменил здесь экономическую, социальную и политическую обстановку. Материалы больших Горзувитских могильников, вся совокупность их разнотипных погребений, думается, подтверждают такое наблюдение. Эти могильники сгруппировались вокруг Горзувит как бы в дополнение к трактату Прокопия. Хотя бы беглым рассмотрением их надо дополнить и наш археологический обзор «округи Горзувитской».
Всемирно известные гурзуфские могильники с разновременными, в том числе и ранними погребениями раскопаны Н.И. Репниковым в девяностых годах прошлого века. Один из них, ближайший к Аю-Дагу, находился в старом Артеке; другой — в Суук-Су, на правом берегу одноименного ручья (сейчас это территория лагеря Артек); третий — в урочище Балгота, на юго-восточном склоне холма Балготур, т. е. на восточной окраине Гурзуфа, в наши дни уже полностью застроенной; четвертый — в урочище Гугуш, невдалеке от Ай-Даниля.
В многочисленных и неодинаковых по устройству могилах и семейных склепах обнаружено множество разновременных вещей, в частности металлических украшений: «пальчатых» фибул VI—VII вв., браслетов, перстней, серег, нашивных бляшек, мелких и больших пряжек, массивных поясных застежек V—VII вв. и т. п. Поражают искусственно деформированные, вытянутые черепа, извлеченные из могил, наиболее богатых по инвентарю.
Много общего с захоронениями Суук-Су и Балготы имеют Кореизский и Ялтинский могильники. Ялтинский, открытый А.Л. Бертье-Делагардом при строительных работах (во дворе собственного дома), содержал вещи, идентичные находкам Репникова. Чрезвычайно похожие на них большие поясные пряжки из серебра с полихромными вставками и позолотой были найдены в могильнике под Чуфут-Кале, открытом Я.А. Дубинским и исследованном сначала П.П. Бабенчиковым, а впоследствии В.В. Кропоткиным. Чернореченский могильник и раскопанный в 1958—1960 гг. под руководством Е.В. Веймарна могильник близ села Скалистое (б. Тав-Бодрак) тоже дал отдельные близкие по характеру предметы.
Недавно на могильнике Фуны (к северу от Алушты) обнаружены погребения с такими же пряжками, браслетами и серьгами VI—VII вв.
Среди погребений Суук-Су были фамильные склепы типа скифо-сарматских или аланских, простые ямы, засыпанные землей поверх настилов из деревянных плах, и такие же ямы, облицованные или только перекрытые плитами. Встречались могилы, сплошь выложенные бутовым, иногда пиленым камнем, или засыпанные, а затем обложенные по краям и заваленные сверху бутом. Различны и очертания могил: прямоугольные в плане, трапециевидные, овальные, бочкообразные… Одной из причин такого разнообразия могла быть этническая неоднородность населения и, вследствие этого, существование в погребальных обычаях разных языческих пережитков, еще не вполне снивелированных единым христианским обрядом. Второй причиной была, по-видимому, разновременность погребений.
О последовательности захоронений судить в данном случае трудно. Перекрывание одних погребений другими, которое обычно помогает установить их относительную хронологию, наблюдается в основном на кладбищах при городских или сельских храмах. Это явное следствие тесноты плотно застроенных территорий. На открытых же и практически неограниченных пространствах проще было вырыть новую могилу чуть поодаль от старой, чем тесниться с риском потревожить прежние захоронения. Если бы места могильников менялись чаще, можно было бы яснее различать их по типам захоронений; приверженность же многих поколений к одним и тем же традиционным некрополям сильно затрудняет эту задачу. Может быть, со временем такую классификацию и удастся осуществить в масштабах всей Таврики, но пока приблизиться к ее решению — в рамках Южного берега Крыма — позволяет лишь большой могильник Суук-Су, где изучено более 200 погребений.
Н.И. Репников различал в Суук-Су два «слоя», или, вернее, яруса могил, разделенных прослойкой погребенной почвы. Каждый из ярусов содержал могилы разного типа, причем в нижнем находились склепы и преобладали простые грунтовые могилы, перекрытые деревом. В верхнем же ярусе склепы отсутствовали и было меньше всего погребений с деревянным перекрытием, а больше плитовых. Н.И. Репников, по существу, никак не датировал нижний «слой», хотя и не раз ссылался на найденные в могилах монеты V, VI, VII вв. Верхний же «слой» Суук-Су он относил к IX—XI вв. Вместе с тем Репников ни слова не сказал о том, был или не был какой-либо хронологический разрыв между верхними и нижними погребениями.
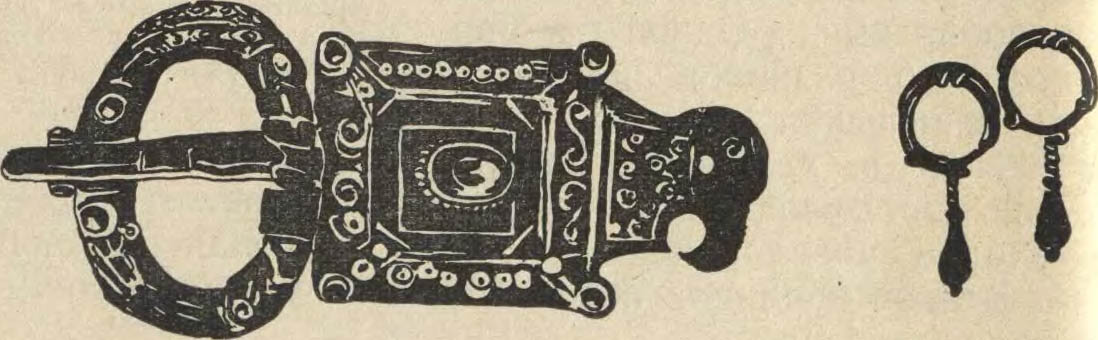
Серебряная пряжка и серьги VI—VII вв. из раскопок могильника Суук-Су.
Неопределенность датировки нижнего «слоя», выдвинутой Репниковым, вызывалась не только присутствием в обоих ярусах некоторых однотипных погребальных сооружений, но и тем, что в могильном инвентаре как нижних, так и верхних погребений, несмотря на разницу в типах могил, были найдены одинаковые вещи. В ряде указанных выше работ произведено уточнение датировки могильника путем всестороннего анализа погребального инвентаря могил нижнего яруса. В результате «пальчатые» фибулы, «соколиные» пряжки и другие украшения готского стиля были отнесены к VI—VII вв. и связаны в основном с земляными могилами и склепами. Выяснилось также преобладание сармато-аланского элемента как в погребальных сооружениях, так и в инвентаре погребений. Однако по-прежнему требовала объяснения сама двухъярусность могильника и оставалось не вполне понятным наличие некоторых одинаковых вещей и однотипных погребений в обоих ярусах.
Ко времени археологических разведок 1963—1965 гг. место раскопок могильника ,Суук-Су уже было трудно найти. Еще до работ Репникова, а в особенности после него, тут основательно потрудились кладоискатели. Затем парковые насаждения и застройки, прокладка шоссейной дороги завершили разрушение того, что еще оставалось от самого крупного из средневековых могильников Южного берега Крыма.
Новое обследование позволило выяснить лишь одну, но немаловажную, подробность: двухъярусность могильника не была следствием социально-исторических сдвигов, которые вызвали какой-то перерыв в его существовании; она явилась результатом большого оползня, который медленно и постепенно накрыл часть могильника, незаметно переместив большую группу как относительно ранних, так и более поздних могил поверх синхронных им и самых ранних. Местное же население, которое, видимо, не беспокоил этот процесс, сильно растянутый во времени, продолжало по традиции хоронить умерших на том же кладбище и погружало новые захоронения в толщу оползневого наплыва.
Итак, два яруса могильника Суук-Су можно считать условными. Хронологически неразделимые, они служат лишь своего рода вехами, помогающими установить, какие типы погребальных сооружений и инвентаря более ранние, какие друг с другом сосуществуют и какие приходят им на смену. Кроме того, эта двухъярусность позволяет в какой-то степени выявить типы не только погребений, но и вещей, традиционных для большинства раннесредневекового населения южного берега Таврики.
Благодаря двухъярусности могильника Суук-Су можно достаточно уверенно выделить и относительно поздний тип погребений — плитовые могилы. Особенно много появляется их в Суук-Су и на других гурзуфских могильниках в VIII — IX вв. К этому же времени относятся чисто плитовые могильники в таких местах побережья, где дотоле не было ни поселений, ни каких бы то ни было кладбищ. Это обстоятельство имеет прямое отношение к гипотезе о резком экономическом и этнокультурном сдвиге, который произошел в южной Таврике в VIII—IX вв. в результате толчка извне. Не мог ли послужить таким толчком — своего рода «цунами» — внезапный приток в VIII—IX вв. на побережье Крыма широкой волны греков-переселенцев из Малой Азии? По некоторым данным, с появлением тут плитовых могил совпадает изменение преобладающего антропологического типа. Впрочем, это требует дальнейшего изучения, возможного лишь при известном накоплении материала и сопоставлении его с аналогичными данными из других мест, в первую очередь из Малой Азии.

Серебряная пряжка готского стиля из Гурзуфа (VI—VII вв.).
Возможны, конечно, и иные гипотезы и догадки. Почему не предположить, например, что традиция плитовых могильников была в Крыму, как и в Малой Азии, местной — непрерывной от античного времени? А изменение этнического состава населения не вызвано ли притоком в Крым из Приазовья племен, входивших в Хазарский каганат? Подобное истолкование тоже не беспочвенно, прежде всего для местности восточнее Кара-Дага, особенно начиная от Феодосии, где проходили границы бывшего Боспорского царства. Население этой территории было теснее связано и с Приазовьем и с Малой Азией, а также с долинами предгорий, куда хазары могли свободно проникать через степные пространства Крыма.

Глиняная посуда из нижнего «слоя» могильника Суук-Су.
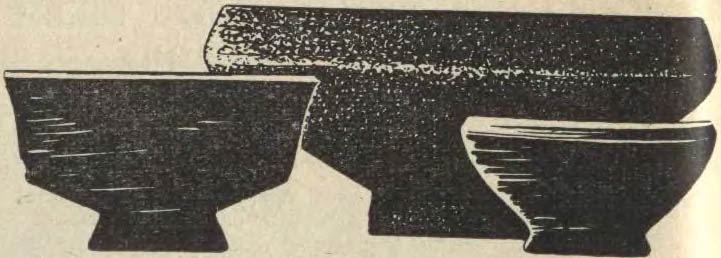
Посуда из верхнего «слоя» могильника Суук-Су.
«Демографический взрыв» в южной Таврике в VIII—IX вв., разорение в это же время Гурзуфской крепости, передряги, пережитые Алустоном, Сугдеей и другими городами Таврики, — все это явления настолько синхронные, что напрашивается сама собой мысль об их исторической взаимосвязи. Результатом крупных событий мировой истории, протекавших в VIII—IX вв. на территории Восточной Европы, были, по-видимому, и те локальные катастрофы, а также экономические и социальные сдвиги, которые произошли в Таврике, в частности на ее южном побережье.
Эти потрясения и перемены, судя по данным раскопок, преобразили весь облик «округи Горзувитской».
Падение преграды
Говоря о византийских крепостях VI—VIII вв. на южном побережье Таврики, не надо забывать, что они были все же лишь частью целого комплекса оборонительных сооружений. Напомним, что вторая его половина состояла из примитивных, но для той поры стратегически важных, сильных своим труднодоступным местоположением стен на перевалах. «Нагорные стены» представляли собой первую и, надо полагать, нередко решающую преграду на пути из глубинной Таврики к Южнобережью. Византийские же укрепления, расположенные далеко внизу, в случае опасности могли бы лишь укреплять тылы организованной на перевалах обороны. В мирное время они были нужны скорее для того, чтобы регулировать к выгоде империи взаимоотношения ее с прибрежными варварами. Отеческая опека готов и охрана побережья от врагов извне занимали византийцев куда меньше. Да и зачем для этого крепости? Достаточно укрепить горные проходы на перевалах, что и было сделано, как свидетельствует Прокопий. Более важную заботу составляло другое — надзор за истинными защитниками побережья, т. е. теми же готами и безопасность (в первую очередь от них же) морских коммуникаций.
В VIII—IX вв. в Таврике происходит внезапное крушение всей вековой, но в принципе уже обветшалой системы византийского владычества.
С конца VII в. Византия все глубже и глубже впадала в длительный экономический кризис, усугубленный восстаниями бедноты, борьбой предельно централизованной императорской власти со светскими, а особенно монастырскими феодалами, с ортодоксальной церковью, которая активно боролась против безграничной централизации светской власти и противопоставляла ей свои теократические тенденции.
В конце VIII в. кризис был обострен тяжелыми войнами против арабов и трудным для Византии соперничеством с Хазарским каганатом (к счастью для нее, тоже воевавшим с арабами).
Дела далеких северопричерноморских окраин империи до конца ее дней продолжали занимать византийское правительство, но в 70-х годах VIII в. у него, видимо, уже не хватало сил продолжать в прежнем объеме, и темпе освоение Крымского полуострова.
Учрежденная к тому времени Херсонская фема (своего рода генерал-губернаторство) имела за пределами Херсона и его тесной хоры — округи — власть скорее номинальную, нежели действительную. Правительство ничем не могло помешать двум явлениям, определившим противоречивую историческую судьбу южной Таврики: массовому переселению в ее пределы гонимых иконопочитателей и нашествию хазар. Причем оба эти явления имели двойственный характер.
В Таврику прибывали, надо полагать, не только иконопочитатели монахи, но и миряне, т. е. отдельные свободные земледельцы, мелкие ремесленники, торговцы и представители феодализированной земельной аристократии со всем подчиненным им деревенским людом. Вместе с ними сюда переносился и весь византийско-феодальный образ жизни. Обретя убежище в Таврике, иконопочитатели не только создали здесь новый оплот борьбы с неограниченной императорской властно, но и заселяли пустовавшие земли, насаждали наиболее передовую для того времени агротехнику, ремесла, торговлю, несли сюда византийские обычаи, законы, религию, греческий язык, письменность и искусство. Этим закладывались прочные основы будущих связей Византии с Таврикой и всем Северным Причерноморьем — связей, необходимых империи независимо от того, кто бы ни победил на внутриполитической арене — иконоборцы или иконопочитатели.
Деятельность хазар на Крымском полуострове была направлена к захвату в конечном счете всей Таврики. Она началась с присвоения хазарской знатью торжищ, городов, крепостей. Однако хазарская агрессия временами сильно умерялась византийско-хазарским сотрудничеством в борьбе с общим врагом — арабами. Этим и можно объяснить, что Херсон, несмотря на временные невзгоды, причиненные ему хазарской оккупацией, нашел «общий язык» и с хазарами и с византийской администрацией, стал важным для обеих сторон перевалочным пунктом и посредником в морской торговле. Именно в этот период он осмелился активно вмешаться и в политические дела самой империи, с успехом выдвинув своего претендента на императорский трон. Иным сделалось положение остальной Таврики, фактически предоставленной самой себе.
В VIII в. процесс феодализации зашел настолько далеко, что хазарские захваты, по существу, не ущемляли интересов Византии. В конце же 70-х годов VIII в., когда иконопочитательская Таврика представляла собой гнездо оппозиционеров, активно выступавших против императоров-иконоборцев, агрессия хазар могла быть даже на руку византийским властям. Во всяком случае не они оказали вооруженное сопротивление хазарам, а местное население, возглавленное своими же феодалами — епископом Иоанном Готским и неким «господином Дороса», правителем города, захват которого хазарами послужил толчком для восстания. Коснулись эти события и округи Горзувитской с ее приморской крепостью, в VIII в., как видно, уже не византийской, а превратившейся в один из центров небольшого феодального мирка, возникшего в южной Таврике.
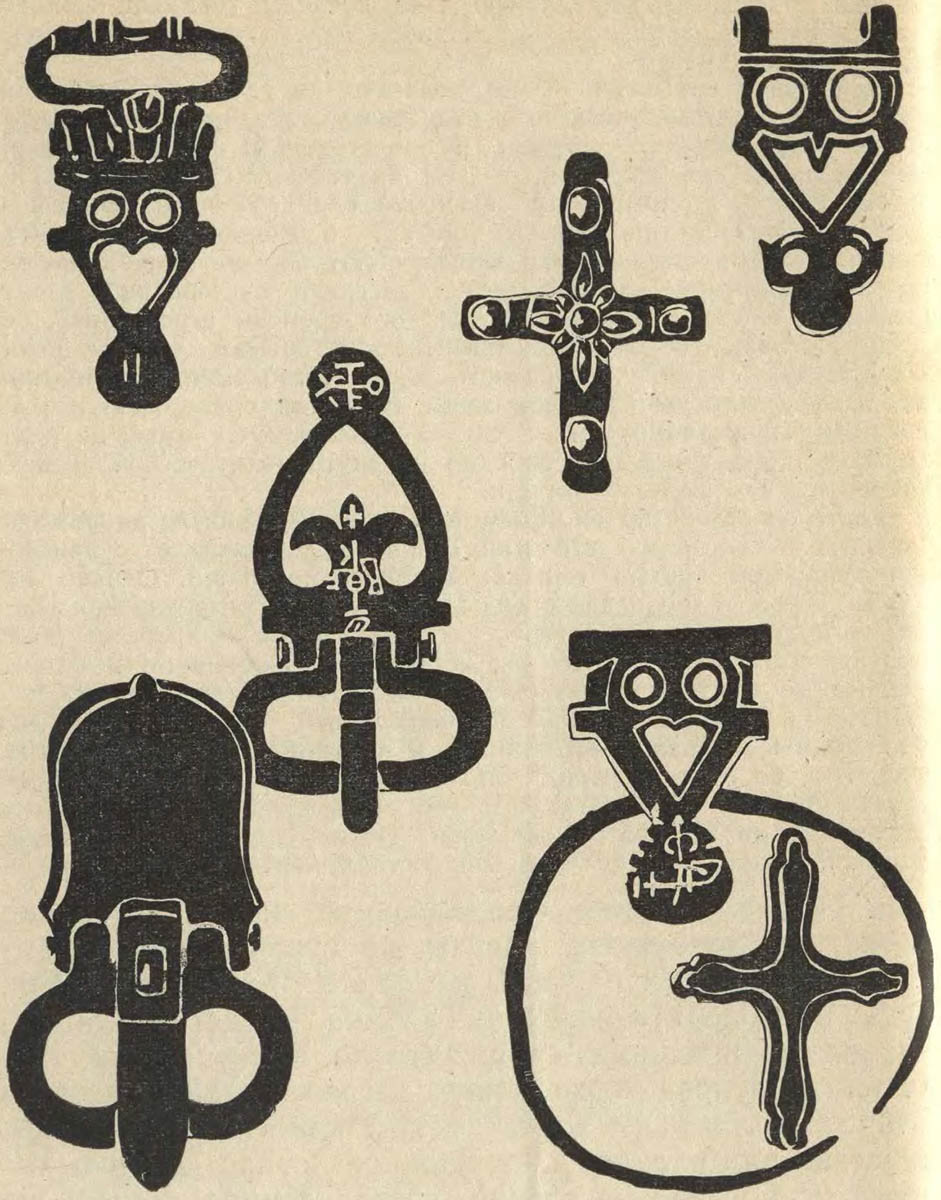
Металлические детали одежды из верхнего «слоя» могильника Суук-Су.
К середине VIII в. Гурзуфская крепость разрослась и неузнаваемо изменила свой облик. «Орлиное гнездо», прежде одиноко возвышавшееся над морем поодаль от ближайших поселений, теперь оказалось посреди обступивших его домов, хижин, храмов. Они расположились у самого подножия крепости, заняли седловину между крепостной скалой и Балготуром и часть склона от седловины до бухты. Их окружило второе, примыкавшее к первому, кольцо оборонительной стены. Византийская (в прошлом) крепость стала теперь цитаделью — ядром небольшого полуварварского городка. Видимо, нечто подобное произошло и с Алустоном.
По обе стороны Горзувитской котловины, вдоль всего побережья, ранее мало обжитого, в VIII—IX вв. возник целый ряд окруженных оградами деревень и больших укрепленных усадеб, а также монастырей, за оборонительными стенами которых укрывались, в случае опасности, обитатели расположенных тут же открытых земледельческих поселений.
Душою и сердцем южной Таврики в последней четверти VIII в. была «готская» епископия во главе с упомянутым выше епископом Иоанном — ярым иконопочитателем и влиятельным далеко за пределами Таврики политическим деятелем. Его резиденция была невдалеке от Курусаит (Горзувит?), в им же основанном монастыре св. Апостолов (на Аю-Даге?). Несомненно, отсюда и занялся пожар: во владениях епископа, судя по его «Житию», был главный очаг восстания.
Менее ясно, где находился охваченный тем же пламенем Дорос, локализуемый одними исследователями на Южном берегу Крыма, другими — на Эски-Кермене, третьими (с наибольшей, на наш взгляд, долей вероятия) — на Мангупе. Неспроста именно там вокруг небольшого, вначале, возможно, византийского укрепления V—VI вв., переросшего в XI—XIII вв. в феодальный замок, возник целый город Феодоро, ставший в XIV— XV ев. столицей одноименного и большого по тем временам княжества. Ничто менее значительное на путях из степного Крыма к Херсону не привлекло бы внимания хазар; ничто в стратегическом отношении менее важное не вызвало бы при его потере такого отклика и попытки отпора захватчикам, как мангупское укрепление. Другими, хотя и столь же косвенными, доказательствами в пользу локализации Дороса на Мангупе могут послужить, с одной стороны, те места «Жития», из которых ясна независимость «господина Дороса» от епископа Иоанна (южный берег был подчинен его власти), а с другой — реальнейшие признаки вооруженной борьбы, пожаров и разрушений, отмеченные археологами на поселениях и городищах не только Южнобережья, но и юго-западной Таврики. Хронологически они приходятся на VIII—IX вв. — время борьбы местного населения с хазарами и упоминаемых «Житием» репрессий с их стороны. Этим были вызваны, по-видимому, разрушения почти всех местных раннесредневековых укреплений, а также повсеместное бегство коренного земледельческого населения долин в горные дебри, где в новых условиях произошла замена хлебопашества отгонным скотоводством. А это все привело к строительству многочисленных сельских укрепленных убежищ, перерастанию некоторых из них в примитивные убогие замки, к развитию в горах Таврики самой «первозданной» (на первых порах полупатриархальной) формы феодальных отношений.
Поразительна порой точность, с какой археологические данные отвечают сообщениям письменных источников. К примеру, «Житие» говорит об успехах повстанцев в начале борьбы с хазарами, о занятии ими старых клисуров — ключевых позиций на перевалах. В соответствии с этим мы видим, что нагорные стены, «длинные стены» Прокопия, рушатся около этого же времени. Не хазары ли, подавив восстание, или еще в самом ходе борьбы, уничтожили стародавнюю преграду, сметая вместе с ней и остатки былой изоляции Южнобережья от остальной Таврики?..
Руины над морем
Забегая немного вперед, сообщим факт, установленный лишь в итоге археологических раскопок. Гурзуфская крепость прожила четырнадцать с лишним столетий и за это время дважды разрушалась и перестраивалась; она, как выражаются археологи, памятник многослойный. Это значит, что в истории крепости как некоего сооружения из камня («строительной истории» — говорят в таких случаях археологи) было три периода относительно спокойного существования — в промежутках между разрушениями и кардинальными перестройками. Люди, жившие тут в каждый из таких периодов, оставили после себя нечто, именуемое культурным слоем. Если сказать попросту, это напластования слежавшегося мусора и земли, где можно найти все, что угодно, за исключением того, что успело истлеть ко дню исследования. Но и «нетленные» компоненты культурного слоя представляют собой, казалось бы, всего-то-навсего отбросы.
Всем ли достаточно ясно, в силу чего удостаиваются внимания науки все эти остатки, т. е. не только целые вещи, но и выброшенные за ненадобностью черепки глиняной и осколки стеклянной посуды, обломки металлических изделий, костяных, каменных и деревянных вещей, уголь и зола, раковины мидий и устриц, скорлупа яиц и орехов, рыбья чешуя, обугленные зерна хлебных злаков, обожженные раздробленные кости диких и домашних животных?
Научная ценность всех этих отбросов определяется тем, что их касалась рука человека. Они — результат его деятельности и хранят следы этой деятельности. Главная задача археолога — путем изучения культурных остатков воссоздать более или менее целостную картину того, как и чем жил человек в далеком прошлом. Наука разработала целую систему методов такой работы. Археологическое исследование во многом походит на расшифровку и чтение мало разборчивой «фрагментированной» рукописи, написанной, к тому же, на весьма своеобразном языке.
Язык земли и камня
Представьте себе, например, что разрушения и перестройки той же Гурзуфской крепости, равно как и промежутки времени между разрушениями, хронологически совпадают с аналогичными явлениями в ряде других крепостей, поселений, городов на Крымском полуострове и за его пределами. Представьте также (как есть оно и в самом деле), что все эти явления хронологически и по своему характеру соответствуют другим данным, например известиям письменных источников. Не сложится ли из всего этого связная историческая картина, или, вернее, ряд картин, последовательная смена которых дает представление о ходе целого исторического процесса, его движущих силах и закономерностях?
Если сравнивать историю Земли и человека с книгой, то никак не с той, что за семью печатями Это книга всем открытая, только отдельные ее главы написаны как бы на разных и неведомых языках. Как труден и специфичен тот из них, над расшифровкой которого годами бьются и гнут спины археологи! Трудоемкость расшифровки усугубляется сложностью самого процесса «чтения». Вскрывая один за другим разновременные пласты культурного слоя, изучая их содержимое и залегающие в них строительные остатки, мы воистину перелистываем и читаем страницы прошлого, но, увы, как бы задом наперед! К началу каждой фразы мы идем от ее конца, о причинах судим лишь по их следствиям, от позднего времени ощупью продвигаемся к более раннему. Но пересказать все, что мы узнаем, нужно не иначе, как в нормальной хронологической последовательности.
Какими же способами эта наука преодолевает, если можно так выразиться, сопротивление своего материала? Археология — это история, но «история, вооруженная лопатой», по крылатому выражению известного советского ученого А.В. Арциховского. В методах, используемых археологами, немало сходного с тем, как работают геологи. Нередко и те и другие читают вместе повесть, написанную на языке земли и камня. Разумеется, археология — наука о человеке как о существе прежде всего социальном. Однако только ли социальном? Да и сами социальные процессы не отражаются ли на окружающей человека природе, не сливаются ли они с действием силы природы? Коль скоро человек живет на Земле, а его производственные и прочие усилия влекут за собой ее преобразование, — археология, призванная изучать человека по его реальным следам, начинает, в свойственной ей мере, изучать и саму Землю. Понятно, что при этом она кое-что заимствует у своей сестры геологии.
Относительно тонкие, занимающие пока довольно ограниченные пространства культурные напластования повсеместно и неуклонно накапливаются, растут, расширяются вместе с количественным ростом рода человеческого. В геометрической прогрессии к развитию техники и повышению жизненного уровня людей возрастают с каждым столетием количество и разнообразие оставляемых ими отходов и отбросов. Прибавьте к этому, что процесс «откладывания» человеком культурных остатков непрерывно совпадает по времени и где-то на поверхности земли обязательно совмещается с теми или иными природными процессами. В результате естественные и культурные отложения могут смешиваться, если они происходят одновременно и в одном месте: чередуясь, они могут перекрывать друг друга; стихийные силы или сам человек в процессе труда то и дело переносят их с одного места на другое. Если учесть все сказанное, станет ясно, в чем и как могут сближаться задачи археологов и представителей других отраслей науки.
Если представление о датах, темпах и характере естественно-исторических процессов дает состав и последовательность залегания горных пород, их обломков, мелких частиц (щебня, гальки, песка, различных глин и почв), то о социально-исторических процессах расскажут культурные остатки, оказавшиеся между подобными слоями или заключенные внутри них. Весь этот порядок обычно невидим и непостижим, но он ясно читается в срезах обнажении, в том числе и в бортах археологических шурфов и раскопов. Обозначается же он термином «стратиграфия», общим для обеих научных дисциплин.
Стратиграфия хранит и раскрывает многое. Пепел ли Везувия заживо похоронит Геркуланум и Помпею, накроет ли селевой поток стоянку первобытного человека, бойкий ли горный ручей унесет уголь и золу его костра, черепки разбитой посуды, а потом далеко внизу, меняя русло, оставит их вместе с песком и галькой на речных террасах, — все это различные варианты явлений одного и того же разряда, прозванного на научном жаргоне геологов «антропогеном».
К числу подобных явлений относится, конечно, и такое событие, как строительство крепости в Горзувитах. В великом ли, в малом ли — сущность и метод исследования останутся теми же. Разница только в масштабах.
Память о том, что именно происходило в данном месте в то или иное время, хранит, как уже сказано, стратиграфия. Она в то же время — своего рода естественным рисунок, передающий внутреннюю структуру, очертания, толщину, взаимоположение, словом, весь характер природных и культурных напластований той сложной материи, с которой имеет дело человек — сперва строитель, а спустя некоторое время — археолог. Ее-то и принято называть грунтом или землей в обыденном значении данного слова.
Обнаженная в ходе раскопок стратиграфия вскрываемого грунта переносится на бумагу — линиями, условными штрихами или красками. Она фотографируется и как можно вразумительнее описывается. (Как часто исследователю не хватает при этом слов!) Из слоев грунта извлекаются характеризующие их археологические компоненты — продукты человеческой деятельности. С помощью шифров, т. е. цифровых и буквенных обозначений — как на самих «продуктах», так и на чертеже, — содержимое раскопа увязывается со стратиграфией. Кроме того, эти же находки вносятся в опись и отмечаются в полевом дневнике. Весь этот процесс, как и конечный его результат, называется полевой фиксацией.
Стратиграфию приходится фиксировать неоднократно и в разных направлениях, т. е. в нескольких (всегда вертикальных) плоскостях. Иными словами, не в одном, а в ряде срезов грунта: в появляющихся по мере расширения раскопа прирезках, в разведочных шурфах или траншеях. В разных местах стратиграфия может оказаться не одинаковой. Например, в одном срезе покажутся, а в другом исчезнут разрезанные мелкие пласты — так называемые линзы, свидетельствующие о каких-то локальных и кратковременных переотложениях грунта. Повторяться же будут в ряде срезов большие слои основных, длительных, широко простирающихся отложений. Прослойки грунта, стерильные в археологическом отношении, расскажут о тех промежутках времени, когда человек покидал это место. Прослойки строительного мусора, каменного теса, раствора извести или глины четко разделят стратиграфию на отдельные слои, соответствующие «периодам обживания» того или иного места, и покажут не одну так называемую «дневную» поверхность, т. е. ту, по которой когда-то ходили жившие и работавшие на ней люди. В любом из исторических периодов была своя, а порою и не одна дневная поверхность.
Каждая линия, по которой проходит стратиграфический срез, отмечается на плане, который все время как бы наращивается в ходе раскопок.
На планах и на чертежах срезов фиксируются строительные остатки, например, фундаменты и основания каменных кладок, их развалы. Они либо прорезают грунт вплоть до самого нижнего, изначального слоя, не имеющего в себе культурных остатков, либо залегают в них, порою же перекрывают культурные слои или перекрываются ими. Изучение строительных остатков и их положения в грунте требует нередко специального отображения в обмерных (архитектурных) чертежах. Оно может быть одной из основных задач или, как в данном случае, главной целью археологического исследования. Когда такая работа проделана (да уже и в ходе ее выполнения), удается понять, из каких элементов состоял данный памятник, как он был построен и как протекал процесс его разрушения. Это, в свою очередь, почти всегда позволяет мысленно и как бы способом негатива воспроизвести памятник — полностью или частично — в его первоначальном виде.
Помещенная здесь (на стр. 103) схема может служить иллюстрацией к нашему рассказу. Добавим, что она воспроизводит именно ту стратиграфическую картину, что выявлена раскопками в Гурзуфе. По существу, это ее обобщенная деталь.
Проявление негатива
О крепости в Горзувитах письменные источники сообщают мало: отмечают факт ее существования да время постройки (первая половина VI в.). Может быть, этого и достаточно для такого не столь уж важного памятника, как наша крепость? Крупные исторические события тех четырнадцати веков, что пронеслись над Горзувитами, несомненно, отразились и на ней (это можно сказать заранее). Но вряд ли сами эти события хоть в чем-то зависели от того факта, что такая крепость существовала и именно в данном месте. Историческое значение крепости, конечно же, определялось лишь ее местом в той цепи раннесредневековых крепостных сооружений побережья, звеном которой она служила или должна была служить по замыслу строителей.
История памятника теперь относительно полно раскрыта благодаря археологическому исследованию его развалин.
Изучение крепости началось в 1963 г. с того, что в трех местах на ее территории были заложены разведочные шурфы: посреди верхней площадки — на отроге скалы, выступающей в море; на средней — там, где над землей проглядывали кладки какого-то почти квадратного сооружения; на нижней — возле развалин толстой стены, пересекавшей расселину.
Верхний шурф, площадь которого составляла 1 кв. м, подтвердил наличие на площадке достаточно мощного культурного слоя на глубине более метра еще не обнажилась скала, в вынутом же грунте были найдены обломки посуды X—XV вв., куски известкового туфа (травертина) — пористого камня, широко применявшегося в строительстве средневекового Крыма для разного рода сводчатых перекрытий и арок. Шурф на средней площадке площадью 4 кв. м дал лишь позднюю керамику XIV—XV вв., т. е. генуэзского времени, а на глубине 1,8 м уже показались разбитые плиты какой-то вымостки, судя по всему, лежавшей на скале.
Шурф, или, вернее, небольшой разведочный раскоп на нижней площадке обнажил два отчетливо делящихся строительных периода в самой толще бутовой кладки. Остатки основания более ранней стены отличались от более поздней кладки раствором, в первом случае розоватым от применения цемянки (верный признак раннего средневековья), во втором — сероватым, на одной извести, смешанной с крупным непросеянным песком. Верхняя кладка при этом не вполне совпадала с нижней, и это смещение под небольшим углом выглядело в плане как вполне заметные «ножницы», достаточные, чтобы убедиться в разновременности кладок.
В самом же раскопе на глубине более трех метров так и не показалась скала, а в грунте были заметны различно окрашенные слои, которые содержали керамику, при этом чем ниже, тем древнее. Обломки различной посуды характеризуют целую шкалу наслоений от XV в. до первых веков нашей эры. Особый интерес для нас представляли в данном случае материалы V—VII вв.: куски крупной ангобированной кровельной черепицы с округлыми бортиками и рельефными выпуклыми клеймами; обломки рифленых амфор из светлой глины с неровными в сечении («кручеными») ручками, незаглаженная поверхность которых отличалась характерным «рваным» профилем; осколки краснолаковых тарелок с гребенчатой «волной» на отлогих краях. Содержавший все это слой вплотную прилегал к нижней из кладок, подошва которой касалась погребенной под ним скалы. Выше залегали кладки и завалы каких-то поздних, мелких построек, примыкавших к наружной лицевой стороне стены. Расширив небольшую площадь шурфа, мы сразу же наткнулись на остатки очага с углями и золой, а рядом оказался целый, приставленный к стене пифос. По найденным здесь осколкам поливных тарелок с линейным прорезным орнаментом постройку можно было отнести к XIV столетию.
В итоге разведки удалось археологически обосновать старое предположение о том, что под руинами приморского укрепления генуэзцев можно открыть остатки Юстиниановой крепости. Выполнение этой сложной задачи требовало больших раскопок, а значит, и средств, какими мы тогда не располагали.
Систематическое изучение руин Гурзуфской крепости было продолжено лишь глубокой осенью 1965 г. в связи с предстоявшей застройкой значительной части западного склона Генуэзской скалы. Намечались большие выемки грунта как раз в той расселине, где были заложены нами шурфы. Расселина эта заслуживала особого внимания: судя по всему, здесь и только здесь могла находиться сердцевина древнего укрепления.
Трудно сказать, как возник замысел использовать для строительства Дженевез-Кая, место, столь же не подходящее для современного жилища, сколь неудобное и с технической точки зрения. Мы думаем, что в данном случае погоня за внешними эффектами заметно пересилила здравый смысл.
Артек обязался обеспечить раскопки рабочей силой и инструментами.
На работу археологи явились первыми ранним утром, еще синим-пресиним, и слегка зябли от осеннего ветра. Им посчастливилось застать тот последний перед восходом солнца миг, когда тяжелая Генуэзская скала с темно-серым крепостным бастионом при изменчивом свете неспокойного неба кажется светлой и легкой, словно взлетевшей, над белым вспененным морем и черными кипарисами. Но было не до того. Торопливо разметив, где копать, археологи поспешили укрыться от ветра в углу развалины и, занявшись перенесением разметки на планшет, с нетерпением поджидали своих будущих рабочих. С ними предстояло открыть и наконец-то явить миру все, что осталось от злополучной византийской крепости.

Поливная посуда XIV—XV вв. из раскопок на горе Дженевез-Кая.

Скала Дженевез-Кая. Вид с северо-востока.
С первым же солнечным лучом, который осторожно лизнул огромную каменную глыбу, неустойчиво торчавшую посреди расселины, появились и они — к разочарованию руководителей раскопок, вовсе не дюжие мужики или хваткие мускулистые парни. Приплыла с кирками и лопатами стая степенных, говорливых нянюшек, собранных на службу науке со всех концов Артека в связи с закрытием лагерного сезона. Археологи сначала растерялись — вот так землекопы! А потом приспособились: несмотря на присущее этим дамам обостренное чувство собственного достоинства, «общий язык» был найден быстро, и копали они хорошо. Недостаток грубой силы помощницы наши возмещали терпением, трудолюбием, вниманием к делу, такой почти материнской заботой о памятнике, какую не помешало бы воспринять и администрации Артека. (Не лишне напомнить, что всесоюзный пионерский лагерь — гордость страны, пример подражания для детских лагерей всего света — целиком построен на залегающих под ним древностях.)
Расселина, которую заполняла собой Гурзуфская крепость, юго-западной стороной открыта на море. Из нее хорошо видны и бухта, заслоненная с северо-востока Генуэзской скалой, и дальний берег с мысом Мартьян, и вся Гурзуфская котловина, окруженная высокими лесистыми горами. Расселина образовалась в результате того, что отколовшийся некогда от Балготура утес Дженевез-Кая сначала расселся надвое, а затем стал медленно разваливаться на куски, положившие начало неприступным скалам причудливой башнеобразной формы. С течением времени расселина заполнилась глыбовым и мелким обломочным материалом, а затем желто-бурой глиной, которая затянула постепенно всю поверхность каменного навала. Дело завершили растения и птицы; из растительного перегноя и гуано возник тут целый пласт черной и жирной почвы, покрывшей суглинок. Среди скал получился крутой, но относительно ровный, согреваемый солнцем склон, укрытый от холодных ветров, с уютнейшими закоулками между каменными глыбами.
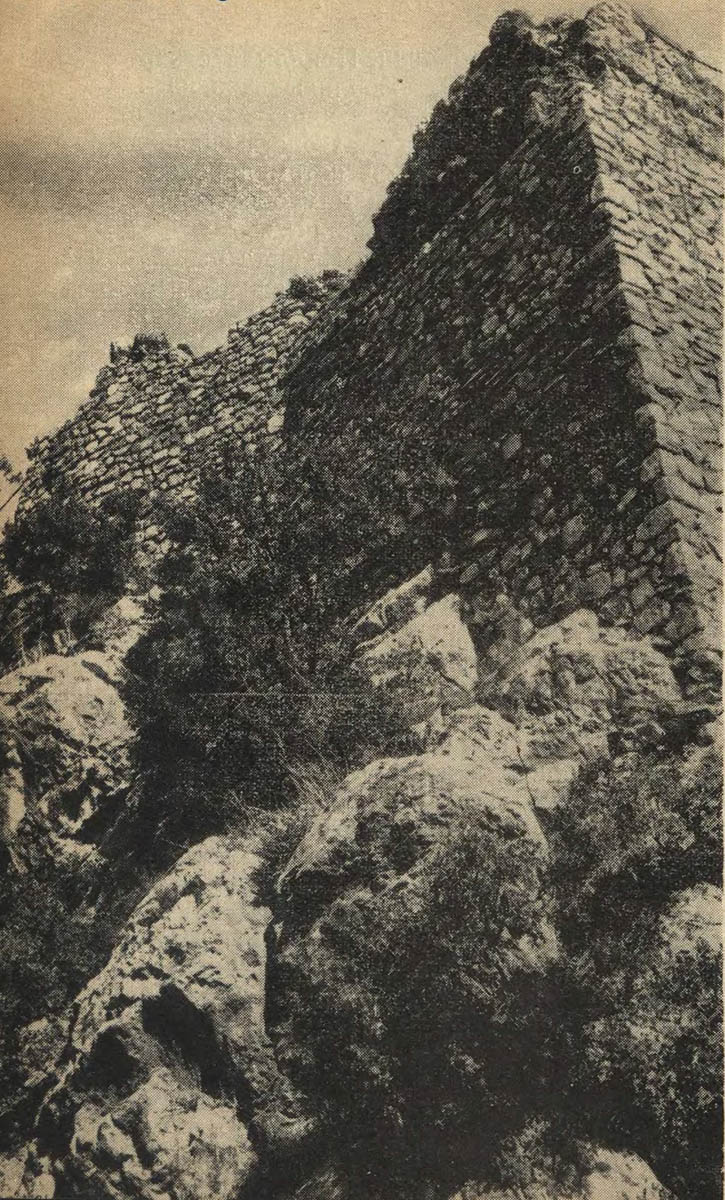
Руины Гурзуфской крепости. Вид с северо-запада.
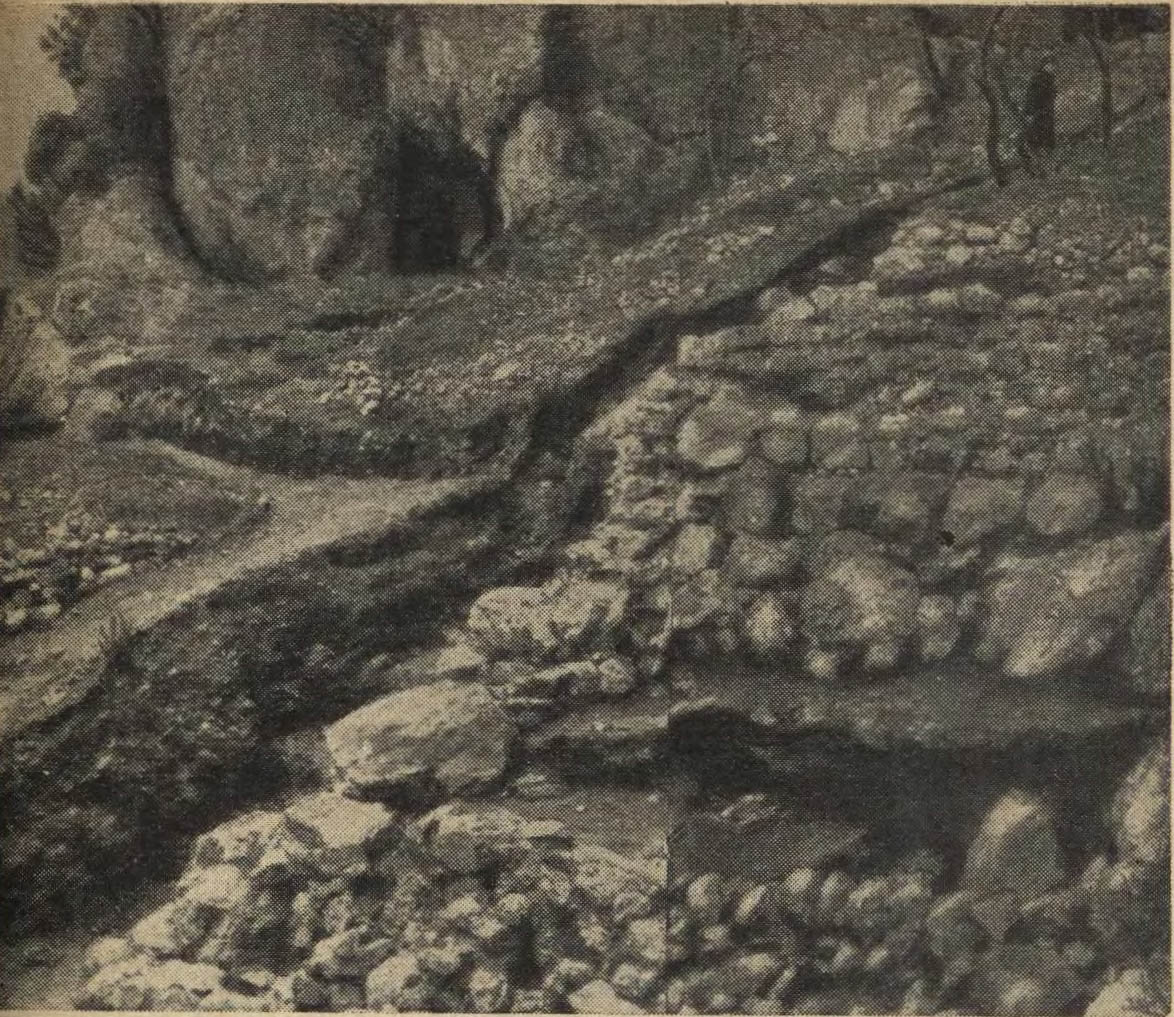
Остатки оборонительной стены VI—VIII вв на скале Дженевез-Кая.
Еще с глубокой древности расселину стали использовать люди. Оказалось, что толстый культурный слой, накопившийся поверх древнего гумуса и в свою очередь одетый растительным покровом, состоит из напластований нескольких исторических эпох.
В самом начале раскопок расселину пришлось разрезать крест-накрест двумя большими разведочными траншеями, поглотившими шурфы 1963 года. Обе траншеи были шириною в метр. Одна, направленная с юго-запада на северо-восток, имела в длину 54 м; вторая прошла с юго-востока на северо-запад на протяжении 30 м. Верхний конец первой траншеи коснулся подножия скалы, на которой сохранились остатки каменных кладок, а середина пришлась на стену, открытую в 1963 г. Нижний же коней достиг обрыва над бухтой и обнажил основание подпорной стены, на которой стоит современная каменная ограда. Вторая траншея пересеклась с первой возле «стены 1963 года». Юго-восточный конец траншеи уперся в глухую скалу, закрывшую расселину со стороны моря, а северо-западный врезался в площадку, края которой укреплены мощными кладками средневекового бастиона. Он-то и известен повсюду как Генуэзская крепость.
В верхнем конце первой траншеи на глубине около 0,5 м от поверхности показались каменные кладки, перекрывающие одна другую и, стало быть, разновременные. Та же картина была вскрыта на всем протяжении этой траншеи и по обе стороны от нее во второй. Местами среди кладок стояли (точнее бы сказать — «сидели») пифосы, всего 15 штук, разной величины и формы. От них сохранились днища, находившиеся (что очень важно) in situ; тут же, рядом или внутри этих сосудов, лежали обломки их разбитых боковин и венчиков.
Чем ниже по склону тянулась первая траншея, тем глубже от поверхности залегали и сложнее переплетались каменные кладки, а у самого края обрыва их покрывал более чем трехметровый слой грунта. Здесь, как и в других горных местах, вековые культурные отложения непрерывно смывались, оползали и книзу постепенно утолщались, задерживаемые нагромождением скальных глыб, а в данном случае и упомянутой выше средневековой крепидой, построенной на обрывистых скалах, чтобы ограничить и усилить открытую к бухте сторону расселины. Эта подпорная стена толщиной около 3 м состоит из двух ярусов разнохарактерной и разновременной каменной кладки, которая, по-видимому, надстраивалась или восстанавливалась после какого-то разрушения.
С внешней стороны «стены 1963 года», от ее подножия до нижнего конца первой траншеи, среди оснований разрушенных жилищ (о жилье говорят пифосы, обломки домашней посуды, черепица, кости, остатки очагов и пр.) была обнаружена могила, облицованная и перекрытая каменными плитами. По устройству и скудному инвентарю (пуговицы в виде ажурных «бубенцов») погребение можно отнести к XI—XII вв. и связать с остатками большой базилики, известной еще с прошлого века. Остатки этого храма, которые нелегко теперь найти, расположены в парке, у самого подножия Дженевез-Кая, ниже и севернее генуэзского бастиона, под современной подпорной стеной. Все три ее нефа сровнены с землей при посадке деревьев: алтарная же абсида и обе боковые почти потонули в толще подпорной стены. В наши дни все это засыпано щебнем и забетонировано для устройства площадки подъемного крана при строительстве общежития пионервожатых Артека. В разное время, при различных строительных работах внутри базилики и вокруг нее были вскрыты такие же, как в расселине, плитовые могилы XI—XII вв.
Под строительными остатками VI в. во второй траншее обнаружено позднеантичное грунтовое погребение девушки-подростка, с серебряным перстнем, раздавленной краснолаковой миской, в которой оказалась скорлупа куриных яиц, и монетой с изображением Плаутины, супруги римского императора Каракаллы (около 212 г.). На ноги, таз и часть туловища погребенной легло основание стены юстиниановского времени В этом месте стена прерывалась: был виден широкий откос проема, переходивший в подобие пилона — большого столба, обращенного внутрь укрепления (в виде буквы Г) и упиравшегося основанием в скалистый склон расселины. Верхний, более поздний ярус кладок — поверх раннесредневековой стены, — образовал здесь такую же Г-образную фигуру, но с некоторым несовмещением, которое свидетельствует о несколько иной планировке построек второго периода.
Выше по склону, под скальным навесом небольшого грота, который использовался и в средневековое время, были найдены следы сильно разрушенного жилища тавров; кострище, частично перекопанное при средневековой застройке грота, остатки примитивных кладок, черепки чернолощеной лепной посуды. Под ними поверх рыжеватого суглинка оказались целые залежи раковин — мидий, устриц, пател — с примитивной лепной керамикой, характерной для середины III тысячелетия до н. э.
Ранее всего в расселине появилась, как видно, энеолитическая стоянка. Наиболее мощные залежи раковин и керамики были найдены в перекрестии траншей, непосредственно под гротом; россыпь их тянулась от грота вниз по склону, подобно длинному языку из раскрытого зева. Эти отложения прикрывали большие каменные глыбы, которые, видимо, отвалились от сводов грота. Зловещие трещины в скале угрожают дальнейшим его разрушением.
На первых порах «чтение» еще скрытой от глаз стратиграфии грунта было затруднительным. Лишь глубина залегания извлекаемых из земли материалов позволяла составить предварительное суждение о возрасте погребенных под ними строительных остатков. При этом трудности датировок усложнялись тем, что на любой глубине и на всем протяжении обеих траншей, разбитых (для удобства и большей точности фиксации) на метровые отрезки, мы получали чуть не на каждом метре весь ассортимент культурных остатков — от энеолита до XV в. включительно. Когда же наши траншеи прорезали всю толщу грунтового заполнения расселины и были зачищены оба борта каждой из них, стратиграфия стала очевидной.
Выявилась наглядным образом и причина парадоксального, на первый взгляд, явления, которое в глазах непосвященного может «опрокинуть» археологические каноны: наиболее поздние материалы (керамика, монеты и т. п.) залегали местами глубже самых ранних. Дело в том, что интенсивная строительная деятельность шла столетиями на одном и том же месте, да еще в условиях крутого горного склона. Она вызвала многократное рытье котлованов под фундаменты возводимых сооружений, выбрасывание, разравнивание, словом, перемещение и перемешивание, или, пользуясь научным термином, переотложение культурных остатков.
Изучая сложный стратиграфический рисунок этих напластований вместе с каменными кладками, можно определить прежде всего относительную хронологию перекрывших друг друга сооружений и сопряженных с ними слоев. Решить следующую задачу — установить абсолютную хронологию, без которой не может быть и речи об исторической интерпретации памятника, — помогает приведенная в конце книги стратиграфическая схема. С незначительным упрощением она передает именно ту стратиграфию, которая исторически сложилась на территории Гурзуфской крепости.
Как уже сказано, траншеи метровой ширины были в процессе раскопок разделены на отрезки метровой же длины, и графическая фиксация археологического материала велась в трех измерениях. Координатами служили глубина его залегания от некой условной «нулевой» плоскости и расстояния от углов каждого из метровых квадратов. Благодаря этому мы могли сопоставить планы обеих траншей (на которых было обозначено все вскрытое в процессе раскопок) с разрезами грунта, перенесенными на бумагу в том же масштабе, что и планы. Таким образом, мы перешли от хронологизации относительной к «абсолютной», т. е. к определению не только последовательности, но и времени различных перекопок и перебросок грунта, а стало быть, и тех строений, при возведении которых происходило такое переотложение.
Дальнейшая работа пошла быстрее. Теперь мы вели раскопки слоями и на более широких площадях (квадратами 5×5 м), однако приходилось быть все время настороже, так как стратиграфия часто изменялась в зависимости от того, что делали тут в свое время строители крепости. Впрочем, по мере того, как вскрывалась все большая и большая площадь, действия средневековых фортификаторов, становились для нас все более ясными. Вскоре мы уже смогли поставить себя мысленно сперва на место одного из военачальников Юстиниана, потом мелкого горзувитского князька XII—XIV вв., озабоченного защитой своей особы, семьи и имущества от поползновений соседей и соплеменников, и, наконец, коменданта, назначенного генуэзскими властями.

Раскопки на Северной площадке Гурзуфской крепости.
О трех сменивших друг друга периодах средневековой застройки расселины, о трех — соответственно -строительных и вместе исторических периодах существования крепости надо говорить особо.
Три лика твердыни
Скалу Дженевез-Кая, на которой была расположена крепость, с трех сторон омывает море. С севера она прилегает к склону холма Балготур, сплошь застроенному домами Гурзуфа, планировка которого в старинной, центральной части повторяет расположение улиц и построек средневекового поселения. Вскрытые раскопками планировка и архитектура боевых и жилых строений позволяют соотнести развалины крепости с тремя разными периодами истории средневековой Таврики. Напомним: под генуэзскими кладками XIV—XV вв. были обнаружены основания оборонительных стен и жилых построек XI—XIII вв., а еще ниже — остатки крепостных сооружений VI—VIII вв.
Естественная скальная твердыня, избранная кем-то из византийских стратегов для строительства крепости, обладала достоинством, которое высоко ценила эпоха средневековья, — она была практически неприступна до тех пор, пока хватало ее защитникам боеприпасов, воды и продовольствия. Неповторимая оригинальность всей конфигурации каменных глыб, на которых зиждились боевые сооружения крепости, навсегда определила их параметры и общую планировку: веками основные пространственные членения и главные узлы обороны оставались неизменными.
Но история не стояла на месте. На смену застарелому родовому строю пришли феодальные отношения, как бы развязанные хазарским нашествием и ослаблением власти Византии. Сначала полупатриархальные, они резко откристаллизовались под влиянием генуэзцев.
Непостоянным было ближайшее окружение крепости: сначала стоявшие несколько поодаль поселения, потом — вплотную обступивший крепость городок со своими оборонительными стенами и, наконец, большое открытое, видимо, ремесленно-торговое поселение, — снова на почтительном расстоянии от крепости. Сменялись и хозяева последней: вчера им был ревностный византийский служака, сегодня — мелкий местный князек, завтра — пронырливый и жестокий торгаш-генуэзец. Развивалось и совершенствовалось военное дело: новое оружие требовало иной тактики осады, штурма и обороны крепостей. Все это не могло не отразиться на фортификации, в данном случае — в тех перестройках и ремонтах, которые претерпел и следы которых сохранил памятник. Археологические раскопки позволяют ретроспективным путем восстановить как бы три крепости, очень похожие и вместе с тем разные, как бывают разными лица родных братьев.
Культурные отложения на территории крепости стратиграфически делятся на три яруса, их дважды разграничивает погребенная дневная поверхность, и они синхронны тем же самым трем строительным периодам, которые пережили стены и башни на Северной площадке, т. е. VI—VIII, X—XIV, XIV—XV вв. В соответствии с этим в строительных остатках гурзуфской крепости можно рассмотреть оборонительные сооружения трех исторических этапов: I — от времени царствования Юстиниана до нападения хазар, II — промежуточный, «между хазарами и генуэзцами», III — генуэзский (до турецкого нашествия 1475 г.).
На раздвоенной («двурогой») Генуэзской скале и в расселине между ее частями имеются четыре неравных размеров площадки. Одна из них — Верхняя, небольшая (30 м в длину и 12 в ширину) — сильно возвышается над морем и над всей крепостью. Отсюда открывается необъятный вид; к югу на далекий морской горизонт, к востоку — на Аю-Даг, к северу и западу — на мыс Мартьян и всю Гурзуфскую котловину. Еще дальше, за котловиной, видны обрывы Главной горной гряды, где расположено Гурзуфское седло (Гурбет-Дере-Богаз) — перевал, через который в древности пробегал один из важнейших путей из северной Гаврики в южную.
Верхняя площадка была выровнена и со стороны моря укреплена каменными стенами с парапетом и, вероятно, зубцами. Стены эти имели как оборонительное, так и техническое значение: они удерживали на краю площадки в самом высоком и неприступном месте крепости какое-то еще не вполне раскрытое сооружение. В ходе раскопок из-под строительного мусора появилось помещение, прилегавшее к оборонительной стене и выложенное изнутри — по стенам и полу — плитами мшанкового известняка. Судя по характеру тонкой, но плотно пригнанной облицовки, розовому цемянковому раствору и ряду других признаков, это была большая цистерна для воды. Подобная постройка — важная Деталь, характерная для подавляющего большинства средневековых, не только крымских, но и кавказских, балканских, малоазийских и прочих крепостей. Сложенная из бута часовня прилепилась рядом с цистерной к отвесному выступу скалы, защищающему Верхнюю площадку с севера. Небольшой плосковерхий утес над северо-западным краем площадки, оборудованный каменным парапетом и высеченной в скале лесенкой, служил своего рода дозорной башней, охранявшей и без того неимоверно трудные и опасные подступы к цитадели с моря.
Толстые (до 4 м) боевые стены главного каземата занимали всю Северную площадку, расположенную много ниже Верхней. Здесь находился основной узел оборонительного комплекса. Стены каземата, обращенные внутрь цитадели, были втрое тоньше наружных. С северо-восточной стороны Северную площадку прикрывала высокая, как столб, скала, на которой сохранились следы висячей лестницы; вершина скалы представляла собой тоже своего рода площадку с перилами и зубцами.
У подножия башни-скалы, в углу, где от основания цитадели отходила стена внешнего оборонительного кольца крепости (совершенно разрушенного в конце XIV — начале XV вв.), возвышается еще одна дозорная башенка с парапетом — сооружение, похожее на птичье гнездо и рассчитанное на одного человека.
При зачистке и раскопке остатков стен XII—XIII вв., выступающих из-под руин генуэзского бастиона, в трех местах площадки были обнаружены «снаряды» для пращи — сотни небольших круглых морских галек, подобранных одна к одной и сложенных кучами в небольших углублениях, словно яйца в лукошке. Тут же лежали и каменные ядра покрупнее (около 12 см в диаметре) — для баллисты. Такие же боеприпасы найдены и в других местах — в слое времени Юстиниана и Прокопия, а также в отложениях хазарского и послехазарского периодов.
 Запас галечных «снарядов» для пращи у боевой стены.
Запас галечных «снарядов» для пращи у боевой стены.
 Гурзуфская крепость со стороны поселка. Слева — остатки дозорной башни, справа — каземат и угол генуэзского бастиона.
Гурзуфская крепость со стороны поселка. Слева — остатки дозорной башни, справа — каземат и угол генуэзского бастиона.
Раннесредневековая военная техника на южном берегу Таврики, вследствие его изолированности, отличалась, судя по всему, известным консерватизмом. Тем не менее разница между вооружением и тактикой времени Юстиниана и XII—XIV вв. заметна и тут.
В VI—VIII вв. шире применялись мелкие гальки для пращи — их и осталось гораздо больше, чем в слоях послехазарского времени. Относительно крупные каменные ядра VI в., очевидно, употреблялись для довольно больших баллист, установленных неподвижно и, вероятно, пристрелянных каждая к своему сектору. Более мелкие каменные ядра в отложениях XII—XIV вв. свидетельствуют об использовании легких переносных механизмов. Листовидные острия копий и дротиков, граненые наконечники стрел, часто находимые вне крепости, говорят о применении арбалетов, о более подвижной и активной обороне, о более гибкой тактике с частыми вылазками и — не исключено — участием конницы.
В связи с этими переменами крепость, возобновленная в послехазарское время, была лишена прежней величавой монументальности. Стены ее стали тоньше, но приобрели несколько изломанные очертания, позволяющие наносить со стен фланкирующие удары по идущему на приступ врагу К этому же времени относится традиционное для местной варварской фортификации использование скальных выступов в качестве своего рода замаскированных башен.
В XIV—XV вв., с приходом в Крым генуэзцев, на побережье появилось огнестрельное оружие, что и сказалось в новом и значительном утолщении стен и устройстве больших амбразур для пушек в бастионе третьего строительного периода.
В широкой расселине между двумя отрогами располагались еще две площадки, Средняя и Нижняя, подпертые мощными крепидами. Среднюю отделяет от Нижней стена с воротами. От всего этого сохранились кладки двух строительных периодов: верхнего — после-[ хазарского, а под ним, как мы полагаем, юстиниановского, который является первоначальным. Средняя площадка оставалась внутри цитадели, использованной в XII—XIV вв., а потом и генуэзцами. На ней сохранялись вплоть до современной застройки основания генуэзского донжона и других построек, в которых могли жить солдаты. Ниже залегали остатки аналогичных зданий двух предшествующих строительных периодов.
На Нижней площадке, открытой к юго-западу, в сторону небольшой, окруженной скалами бухты, вскрыты перекрывающие друг друга основания хижин, сложенных из камня на глине, с очагами и пифосами (кроме бесчисленных обломков, найдено четыре разбитых и пять целых). В пифосах обнаружены обуглившиеся зерна проса, пшеницы, чешуя и косточки соленой хамсы.
Обильный керамический материал позволяет расчленить время существования поселения и крепости на три периода. Первый (VI—VIII вв.) закончился хаотическим разрушением построек и большим пожаром, после которого долгое время, примерно до середины X в., крепость почти пустовала.
Возникшие между X и XIII вв. оборонительные сооружения восстановленной крепости строились на более низком техническом уровне, чем византийские стены, и носят характер несколько варваризованный. Они хранят следы неоднократного мелкого ремонта. В это время крепость обрастает жилыми постройками, которые лепятся прямо к ее стенам.
Третий период (XIV—XV вв.) ознаменовался планомерным сносом всех домов на Нижней площадке, особенно их стен, обращенных в сторону склона. Боковые стены были клинообразно скошены, а задние оставлены до середины их высоты. Камень и строительный мусор использовались тут же для заполнения пустот между остатками стен и, таким образом, выравнивания склона ниже стены и ворот цитадели.
Многовековые культурные отложения вследствие крутизны склона постоянно оползали и книзу утолщались. Из-за этого внизу и возле построек, стоявших на склоне, археологический материал скапливался в большем количестве, чем наверху.
На ближайшей к цитадели территории еще в дореволюционное время прослежены остатки средневековых построек. Они возникли здесь после разрушения и упразднения хазарами византийской крепости, когда на побережье, где уже длительное время не было твердой централизованной власти, самостийно вырастали полудеревенские по своему облику укрепления, похожие во многом на небольшие феодальные замки. То же произошло и с Гурзуфской крепостью, которая в XII—XIII вз. вновь становится цитаделью небольшого укрепленного городка. У северо-западного подножия ее вырастает в это время (XII—XIV вв.) большая трехабсидная базилика. В XIV или начале XV в. большая часть строений близ цитадели была снесена, э сама она подверглась коренной перестройке соответственно требованиям нового времени и новых хозяев.
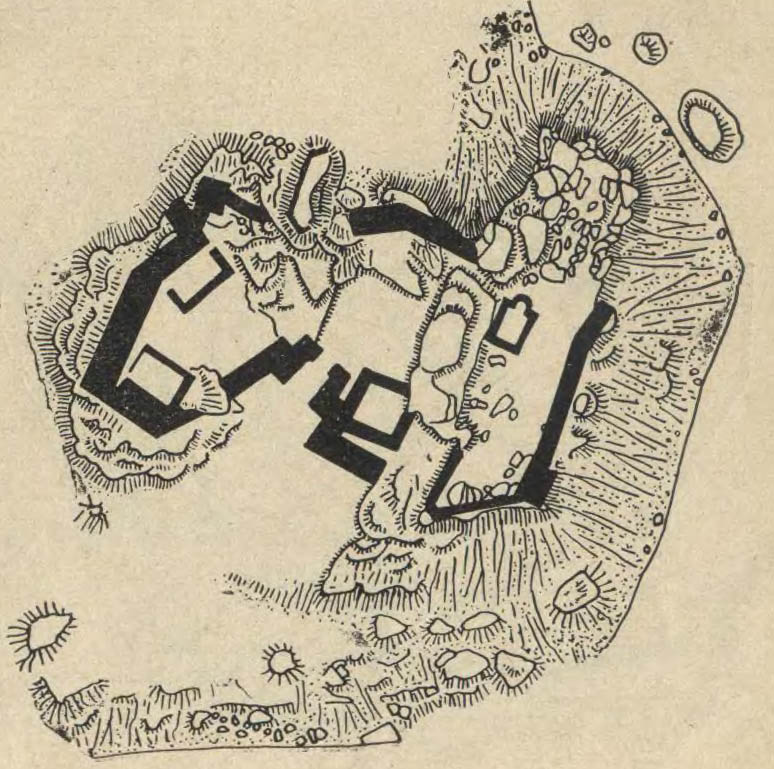 План «крепости в Горзувитах». VI—VIII века. Цитадель.
План «крепости в Горзувитах». VI—VIII века. Цитадель.
В результате раскопок удалось выяснить не только примерный план и внешний вид укрепления, но и представить себе быт обитателей крепости и городка. Резко различаются убогие постройки вне цитадели, сложенные на глине, и строения внутри, добротные, возведенные на цемянково-известковом растворе, крытые черепицей. Внутри крепости найдено немало обломков красивой и дорогой привозной посуды и множество костей крупных домашних животных. Вне ее встречаются осколки лишь самой простой глиняной посуды, а среди пищевых отбросов преобладают рыбьи кости. Кости мелких домашних животных здесь редки, причем главным образом от наименее ценных частей туши, где мясо худшего сорта Все это говорит о существенной разнице в бытовых условиях, а стало быть, и в социальном положении гарнизона цитадели и рядовых обитателей хижин.
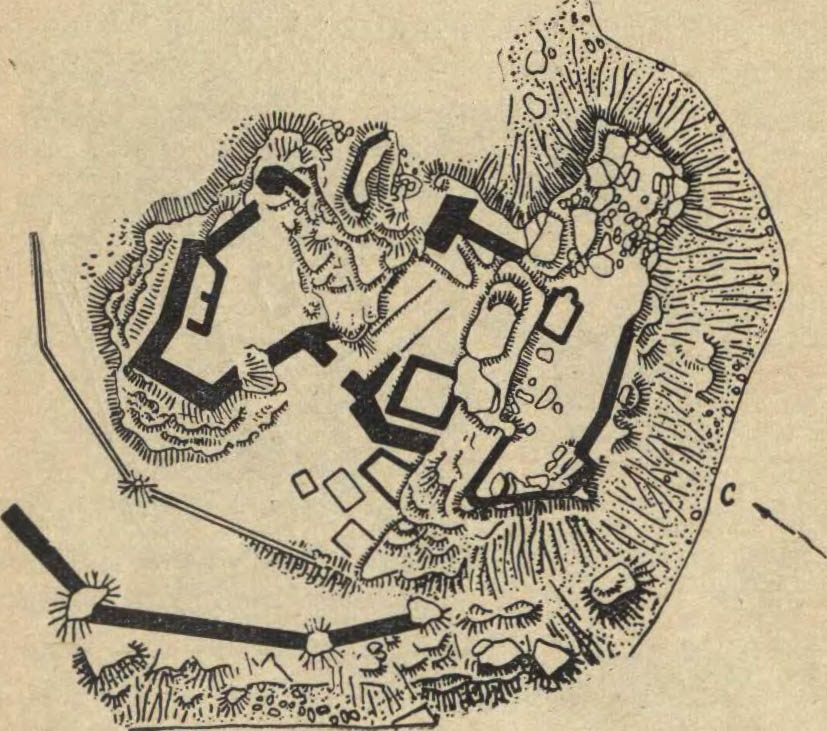 Гурзуфская крепость в период хазарскою нашествия (около VIII века).
Гурзуфская крепость в период хазарскою нашествия (около VIII века).
Разрушение Гурзуфской крепости хазарами, как уже говорилось, прекратило ее первый строительный период и сопровождалось разорением городка, доверчиво прильнувшего к ее подножию. С этого момента горзувитская твердыня, как и прочие приморские укрепления, перестает играть сколько-нибудь выдающуюся роль на побережье.
Второй строительный период Горзувитской крепости столь же примитивен, как и повсюду в Таврике того времени. Заделаны были бреши и дыры в уцелевших местами стенах. Прямо на строительный мусор вдоль развалин старых стен положены основания новых кладок, как бы поглотивших предшествующие, более древние. Опять появляются у стен и ворот замка обмазанные глиной и побеленные известью хижины из бута на глиняном растворе. Новая внешняя стена с маленькими дозорными башенками ставится поверх развалин византийских стен.
Оживает, по-видимому, в Горзувитах и торговля, о чем можно судить хотя бы по множеству заморской привозной керамики. Воскресший городок начинает новую жизнь, мало похожую на прежнюю: теперь уже не торжище расположилось при крепости, а крепость при торжище для его охраны.
В этой книге нет возможности проследить, какими путями пошло в послехазарский период развитие Таврики, как и почему глухо угасла, так и не выполнив своего предназначения, Херсонская фема, каким образом византийские военачальники — топархи — превратились в феодальных князьков. Пока можно лишь гадать, почему возвысился среди всех «господин Дороса», впоследствии князь Феодоро, который стал собирать вокруг себя меньшую феодальную братию — архонтов и тимариотов.
Раздробленность и неуправляемость южнобережья, отсутствие преград на перевалах привели, очевидно, к тому, что политическое влияние Мангупа распространилось и на него, а «господин Феодоро» получил основание титуловать себя «владетелем Поморья».
Через какое-то время «Горзувиум» становится одним из довольно важных для побережья пунктов морской торговли. В этой именно роли он и привлекает внимание генуэзцев, откупивших в XIV в. у Византии (ценою весьма существенных военных и политических услуг) торговлю на Черном море и предпринявших, как бы по ее стопам, освоение Таврики.
Но Таврика была уже не та.
Если утверждение генуэзского господства происходило относительно легко и просто в юго-восточной Таврике, разоренной, ослабленной и терзаемой печенегами, половцами, татарами, если там генуэзцы могли без особого труда, по хорошо оплаченному сговору с татарами завладеть землей, поселениями, людьми и полуразрушенными укреплениями, го в южной Таврике и татары и генуэзцы наткнулись на целую сеть укреплений — городищ, замков, монастырей, дозорных крепостей — и на достаточно монолитную, уже государственную по своему характеру, систему управления и обороны. Они не могли с нею совладать, но и не оставили своих притязаний на побережье — «Поморье» Мангупа. «Господа Феодоро» — к невыгоде и раздражению генуэзцев — начали пробовать свои силы в морской торговле. Однако у Мангупа не было флота. Это, да еще нехватка огнестрельного оружия, не давало ему возможности прогнать подальше настойчивых притязателей, к тому же формально опиравшихся на «права», полученные от Византии и крымского хана. Но ведь и мангупский князь как преемник «ромеев», да и по кровному родству с императорским домом, имел этих «прав» никак не меньше!..
Вторжение генуэзцев на Южный берег вряд ли было для них i делом легким, несмотря на применение вооруженной силы. Взамен захваченных береговых укреплений и городков, выше них, но совсем рядом, появлялись новые укрепления. Возводимые в спешке и потому в строительном отношении довольно небрежно, они, тем не менее, были сильны неприступным местоположением, хорошо охраняли основные пути с перевалов на побережье и, видимо, не давали возможности генуэзцам обрести в южнобережном «Поморье» (как на юго-восточном побережье) новую «Кампанью» — собственную сельскохозяйственную территорию, без которой была невозможной прочная колонизация побережья. Так называемое «Капитанство Готия», учрежденное для охраны генуэзских морских коммуникаций и управления мелкими береговыми факториями, было, по существу, результатом некоего компромисса. По-видимому, на него молчаливо, но со своими расчетами на будущее, согласились обе стороны, хотя и ту и другую это, в общем, мало устраивало.
В захваченных населенных пунктах генуэзцы вели себя бесцеремонно и жестоко. Судя по руинам в расселине, они снесли не только внешнее кольцо оборонительных стен, но и все жилые дома, примыкавшие к цитадели, которую занял генуэзский гарнизон. Этим закончился второй исторический и вместе строительный период самостоятельного бытия Гурзуфской крепости.
Третий строительный период — генуэзский — ознаменовался новой перестройкой цитадели, которая в общих чертах, хотя и без сознательного умысла, возрождала первоначальный облик крепости. Генуэзцы подвели каменные кладки бастиона на Северной площадке к самым краям естественного глыбового навала, сделав цитадель еще более неприступной. При этом они несколько увеличили размеры площадки: остатки стен двух предшествующих периодов оказались внутри новой кладки. Остальные стены бастиона, обращенные внутрь цитадели, оставались, как и ранее, вдвое тоньше. Двухэтажное помещение внизу имело нечто вроде кордегардии — с каменной лежанкой, скамьей вдоль стены, камином для приготовления пищи и отопления этой небольшой казармы, предназначенной для отдыха посменно дежурившей стражи. Донжон у ворот на Средней площадке был снова надстроен и использовался как жилье, а северный откос ворот повернут несколько иначе и перестроен с некоторым отступлением внутрь цитадели, благодаря чему получился фланкирующий ворота выступ южной части бастиона.
Нововведения генуэзцев сильно повысили боеспособность крепости. Снова возвышалась она на скале, в гордом отчуждении от поселения, отныне лишенного оборонительных стен и как бы отодвинутого с седловины подальше на юго-западный склон Балготура.
Напомним, что под цитаделью сохранились нижние кладки толстых стен внешнего оборонительного пояса. В них, как уже говорилось, можно различить лишь два строительных периода. По-видимому, генуэзцы использовали и перестраивали только цитадель, а разрушенное ими наружное оборонительное кольцо, которое служило защитой для поселения, больше не восстанавливалось.
Все эти перестройки происходили уже в XV в., но ни на один день не продлили существования крепости, сравнительно с другими укреплениями Таврики. В 1475 г. под натиском турок ее в ряду прочих постигло последнее разрушение, после которого она более не возобновлялась.
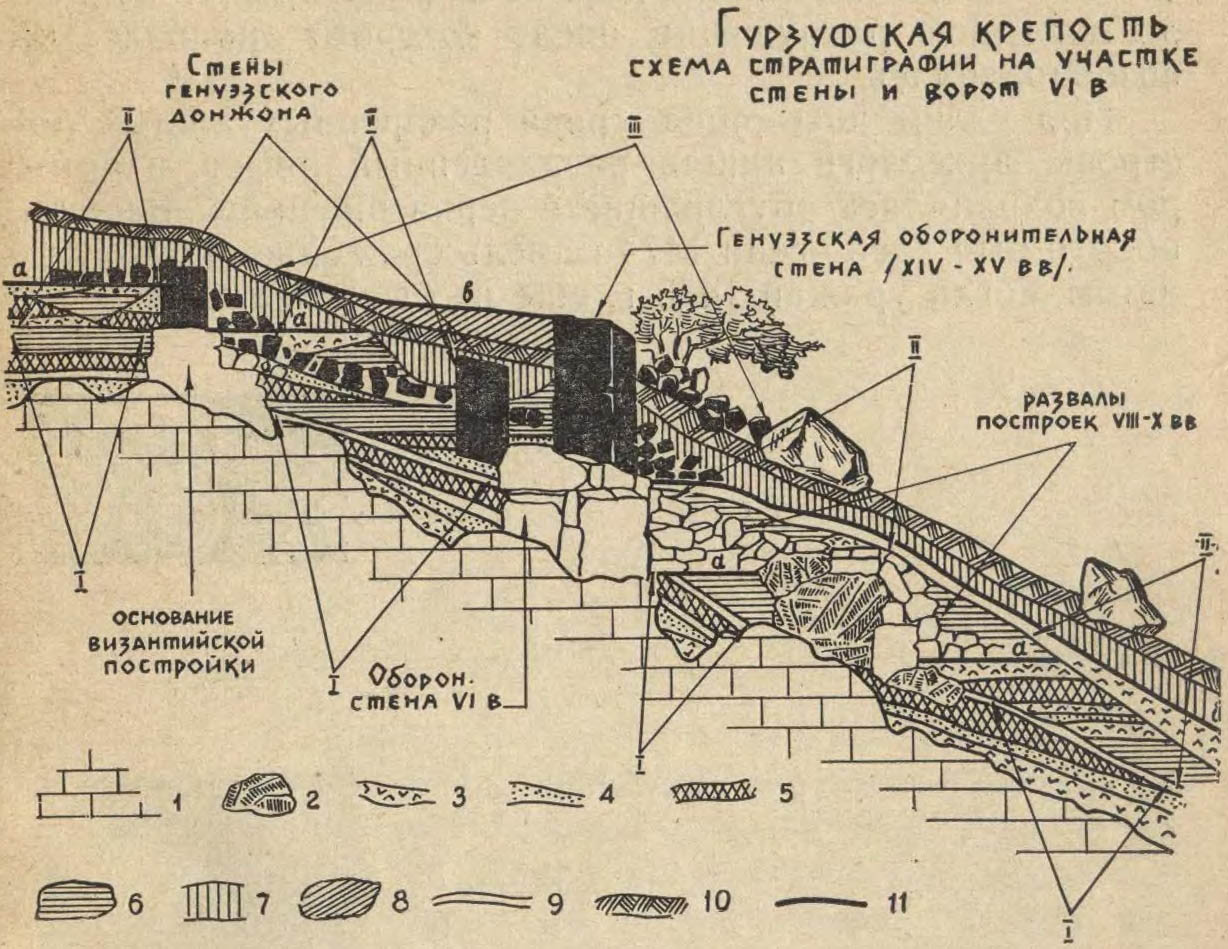
1 — коренная порода (известняк); 2 — отдельные скальные глыбы; 3 — делювий; 4 — энеолитические отложения (середина III тысячелетия до н. э.); 5 — таврский культурный слой (VII — VI вв. до н. э.); 6 — наслоения хазарского и позднейшего времени (до появления генуэзцев); 7 — слои генуэзского и турецко-татарского периодов; 8 — современные отложения; 9 — «стерильные» прослойки грунта; 10 — растительный покров; 11 — «дневные» поверхности: а — юстиниановского времени, б — генуэзского периода, в — современная; I — нормально залегающие отложения; II — слои, смешанные и переотложенные в результате строительной деятельности в эпоху средневековья; III — завалы генуэзских построек под современным мусором.
Под слоем пожарища, среди разоренных жилых построек, археологи нашли раздавленный пифос, в котором сохранились обуглившиеся зерна пшеницы. Вероятно, это был хлеб осени 1474 г.: ведь сражение произошло летом, когда урожай 1475 г. еще не был убран…
Вместо заключения
Стародавнюю гипотезу о том, что юстиниановская крепость в свое время стояла именно на Гурзуфской скале, а не в ином месте, теперь уже нельзя считать бездоказательной. Археологические изыскания 60-х годов принесли подтверждения справедливости такой догадки. Они раскрыли жизнь крепости в течение трех исторических периодов, позволили заметить связь ее с другими средневековыми памятниками — ранее известными и вновь обнаруженными. Были открыты следы и досредневековых обитателей Гурзуфской котловины.
Однако раскопками 1965—1967 гг. исследование крепости еще не завершено. Для того чтобы ее история была вполне раскрыта, надо, в первую очередь продолжить раскопки в цитадели: на Северной площадке, где можно полнее выявить контуры главного бастиона (для каждого из трех его строительных периодов); на Средней, где сохранились по сторонам строящегося здания остатки средневековых жилищ; на Нижней, где, несмотря на современную застройку, есть возможность расширить изучение подступов к цитадели. Особенно же много работы на Верхней площадке, ожидающей своего исследователя. Не менее важные данные о Горзувитах — Горзувиуме — Гурзуфе могут дать и раскопки в парке вокруг цитадели.
Такие исследования, конечно, дело не одного года, особенно, если они (как и надлежит) будут сопровождаться дальнейшей археологической разведкой округи Горзувитской.
Но и это не все. В будущем археологам предстоит шагнуть дальше — перейти к систематическому изучению если не всех, то наиболее сохранившихся разновременных и разнородных памятников Южнобережья, как единого, исторически сложившегося комплекса.