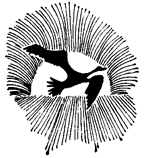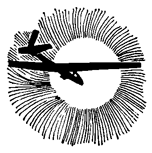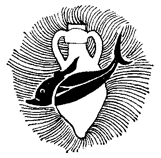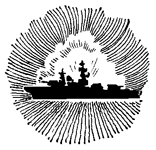Симферополь, Таврия, 1977 год.
Эта книга — результат разысканий, встреч, раздумий о прочитанном журналиста М. Лезинского, рабочего по профессии. На ее страницах речь идет о выдающихся писателях, чье творчество связано с Севастополем, — об Афанасии Фете, Марке Твене, Михаиле Зощенко. Читатель встретится с интересными людьми, влюбленными, как и автор, в природу — садовником парка Дома творчества «Коктебель» С. Клименко, инструктором по туризму С. Вересовым, профессором Гришаевым…
Особое место занимает очерк «В старых генуэзских башнях» — о героях сводного пограничного полка НКВД, защитниках Балаклавы.
Заканчивается книга рассказом о путешествии из Симферополя в Ялту — по 24-му всесоюзному маршруту.
Судьбы и тропы
Крымское краеведение обладает удивительной притягательной силой. По себе знаю: для человека пишущего жить в Крыму и не написать о нем, о его прошлом и настоящем, о природе края, о людях, оставивших след на этой земле, почти невозможно. А свой след оставили здесь многие, о многих написано, но всплывают все новые имена. Вот и в этой книге читатель, может быть, неожиданно для себя встретится на крымской земле с русским поэтом Афанасием Фетом, американским писателем Марком Твеном, сатириком Михаилом Зощенко.
Этими встречами мы обязаны любознательности автора очерков, его интересу ко всему, что касается Крыма, что написано о нем. Конечно же, в основе их лежат литературные источники, но М. Лезинский тактично домысливает детали, бережно воссоздает обстановку давнопрошедших событий…
Однако еще интереснее те встречи, которые явились результатом собственных кропотливых исследований и поисков автора. Вернее даже сказать: они не просто интересны, а насущно важны. И тут хочется прежде всего обратить читательское внимание на очерк «В старых генуэзских башнях». Он делает нашим достоянием дотоле неизвестные факты истории легендарного сводного полка пограничников, которым командовал удостоенный посмертно звания Героя Советского Союза подполковник Герасим Рубцов.
Заняв в первые недели обороны Севастополя рубеж у Балаклавы, пограничники удерживали его до конца. Какие люди, благородные и мужественные, сражались в рядах полка! Имена некоторых из них как бы затерялись в водовороте событий, другие лишь бегло упоминались в различных публикациях. Очерк М. Лезинского хоть отчасти (потому что поиск должен быть продолжен), но восстанавливает справедливость, говорит о тех, кто сам сказать о себе, увы, уже не может.
Защитники Севастополя, даже оказавшись во вражеском плену, в гестапо, в лагерях смерти, продолжали борьбу с гитлеровцами. Судьба одной из севастопольских женщин — военного врача Зинаиды Васильевны Аридовой — прослежена в очерке. Поразительная судьба!
А история полустакана молока, который получали в рубцовском полку раненые и дети! В ней отразились и драматизм обстановки, и высокий гуманизм наших людей, отстаивавших Севастополь. Обратите внимание на главу, повествующую об этом. Она так и называется — «Полстакана молока».
Не будет преувеличением сказать, что очерк «В старых генуэзских башнях» проясняет еще одну страничку в летописи борьбы с немецко-фашистскими захватчиками на крымской земле.
М. Лезинский предпочитает писать либо о том, что сам увидел или досконально изучил, либо о том, что является итогом его собственного опыта. Рабочий-электрик по специальности, он написал славную, сдобренную юмором повесть о сельских электрификаторах. Живет в Севастополе — пишет о нем. Исходил горный Крым, особенно его юго-западную часть, — потянуло рассказать об этом. Так появились очерки «Легенды и быль Батилимана», «По горным тропам крымским».
Не станем возводить в ранг особых достоинств то, что автор хорошо знает места, о которых пишет, — так и должно быть в краеведении. Однако он их не только знает в мельчайших подробностях (об этом можно, в частности, судить по многочисленным весьма дельным рекомендациям туристам), но и любит. И любовь эта не декларируется — она стала как бы самой атмосферой очерков. Хотелось бы, чтобы читатель ее и почувствовал, и разделил. Не умозрительно, а, так сказать, практически. Необходимость в этом крайняя. Сохранение природных и исторических памятников стало проблемой в Крыму. Возникла она в основном из-за туристов — кому же как не им включиться в благополучное ее разрешение!..
«На крымских перекрестках» — не путеводитель, несмотря на обилие содержащейся в книге информации о тех или иных местах. Однако очерки М. Лезинского, думается, станут добрым спутником каждого, кто «болен» Крымом, кто любит его и хочет его узнать. Чем-то они развлекут вас, кое о чем важном и непреходящем заставят подумать, а в чем-то, хочется верить, и помогут полезным советом.
С. Славич
…Море плещется.
Терпкий ветер,
Будоражь, тревожь и зови!
Крым, я шлю тебе строки эти
Как признанье мое в любви!..
Не мне принадлежат эти строки. Давным-давно я прочитал их и запомнил на всю жизнь. Они стали моими.
Автор
Содержание
- Прописаны навечно
- Облака обещали дождь
- «Ах, почему я не умею говорить по-русски!»
- Следствие по делу «Черного принца»
- В поисках синей розы
- Синяя роза
- Скворушка, сердолик и Кара-Даг
- Легенды и быль Батилимана
- Батилиман
- О дельфинах, Понте Эвксинском и о бутылке из под шампанского
- Легенды витают над неприступным мысом Айя
- В старых генуэзских башнях
- Начало обороны
- Полстакана молока
- Балаклава. Последние дни
- По горным тропам крымским
- Здравствуй, Симферополь!
- Вас приветствует…
- От Бахчисарая до Соколиного
- «Орлиный залет»
- От Соколиного до Ялты
Облака обещали дождь
Над Северной стороной плыли облака, обещая дождь. Но дождя не было.
— Может, переждете? — сказал возница Фету. — У меня кладбищенский сторож в знакомцах ходит, у него и пересидеть можно… Несусветный ливень намечается…
Возница — старый севастопольский унтер — в Крымскую кампанию служил под началом поручика Льва Толстого, о чем он немедленно доложил Фету, как только тот сошел с парома и стал искать извозчика.
Мог ли Фет отказаться от такого сопровождающего, хотя тот и запросил за провоз в два раза дороже? Не мог. Хоть и не в обычаях Фета было переплачивать.
По дороге к кладбищу возница сообщил Фету о последнем бое на Малаховом кургане и о том, что только благодаря геройству унтера, то есть его геройству, поручику Льву Толстому удалось избежать гибели.
В последнем бою на Малаховом кургане Толстого не было. Об этом Фет знал точно. Как-никак, был он близок с графом.
«Пусть врет, — подумал Фет, надо будет не забыть рассказать об этом унтере Льву Николаевичу…»
— Так как, ваше благородие, пересидите дождь?
— Дождя не будет, служивый, не должно сейчас быть дождю. Бывший унтер взглянул на иссохшую под июньским зноем землю, на порыжелые бока кладбищенских кипарисов и сказал:
— Точно, может и не быть. Давно дождя ждем…
Фет снял фуражку и подставил лысую голову теплому ветру.
— Пойду, служивый, ты меня не жди… А Льву Николаевичу я непременно поклонюсь от тебя…
Фет вошел за кладбищенскую ограду и остановился. Его «встретил» памятник генералу Хрулеву. Мрамор памятника еще не успел потускнеть, и надпись светилась золотом: «Хрулеву — Россия».
Фет подошел к мраморной колонне и прочитал слова, заставившие сжаться его сердце. «Пораздайтесь, холмы погребальные, потеснитесь и вы, благодетели. Вот старатель ваш пришел доказать любовь свою, дабы видели все, что и в славных боях и в могильных рядах не отстал он от вас. Сомкните же теснее ряды свои, храбрецы беспримерные, и героя Севастопольской битвы окружите дружнее в вашей семейной могиле».
Фет знал генерала Степана Александровича Хрулева. Он знал, что в жесточайшем бою за Малахов курган 8 сентября 1855 года Хрулев был ранен. Ранен в том самом последнем бою за Севастополь, о котором упоминал старый унтер.
Но не умер тогда Степан Александрович от ран, а дожил до седых волос и скончался в Петербурге в 1870 году. Выполняя волю покойного, Хрулева похоронили здесь, на Братском кладбище, на Северной стороне Севастополя.
Фет идет мимо надгробных плит, и глаза непроизвольно выхватывают черные точечки букв, буквы складываются в фамилии рядовых и офицеров, названия рот и батальонов.
Впоследствии Афанасий Афанасьевич Фет напишет:
«…Нигде и никогда не испытывал того подъема духа, который так мощно овладел мною на Братском кладбище. Это тот самый геройский дух, отрешенный от всяких личных стремлений, который носится над полем битвы и один способен стать предметом героической песни…»
И родится стихотворение, которому Афанасий Фет даст название:
СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Какой тут дышит мир! Какая славы тризна
Средь кипарисов, мирт и каменных гробов!
Рукою набожной сложила здесь отчизна
Священные тела своих сынов.
…Из каменных гробов их голос вечно слышен,
Им внуков поучать навеки суждено,
Их слава так чиста, их жребий так возвышен,
Что им завидовать грешно…
Так напишет Афанасий Фет 4 июня 1887 года — через восемь лет после посещения Братского кладбища.
Но неужели эти строки написал тот самый «сладкозвучный» Фет, у которого есть такое:
Ночную фиалку лобзает зефир,
И сладостно цвет задышал?..
Тот самый Афанасий Фет, стихи которого лучшие композиторы России превратили в романсы: «Я тебе ничего не скажу», «Сияла ночь. Луной был полон сад…», «Опавший лист дрожит от нашего движенья…»?
Тот и не тот. Каждое поколение прочитывает больших поэтов заново. Евгений Винокуров сказал о Фете: «Через все творчество Фета, то затихая, то громко звуча, проходит одна отчаянная, рыдающая нота, одна звонкая трагическая доминанта… Не идиллик, как принято считать, не певец безмятежных сельских радостей, а поэт напряженный, динамичный, дерзкий…»
«Дерзкий» — не винокуровское определение. Слово принадлежит Льву Толстому. Он писал: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?» Значит, не только последующие поколения прочитывают поэта заново, но и для современников он был разный?..
Над часовней Братского кладбища продолжали плыть низкие облака, и казалось, что стоит им опуститься чуть-чуть ниже, они зацепятся за полированный каменный крест и прольются дождем. Но ни капли не упало на сухую жаждущую землю.
Фет дошел до часовни. Оттуда доносилось заупокойное пение — отпевали защитников обороны, которые пережили своих товарищей и умерли тихой смертью. Фет направился к выходу, где его ждал возница — старый унтер. Старик был слегка пьян. Унтер хотел еще что-то рассказать о военной жизни графа Толстого, но, увидев воспаленные веки Фета, борозды от слез на измятом лице, всклокоченную бороду, сказал, словно извиняясь:
— Жалеете, ваше благородие, нашего брата… Где-то и мне здесь место выделят…
Фет промолчал, видно не расслышал. А возница продолжал:
— Эх, побили мы тогда бусурманов, крепко побили, но и нам, что там говорить, перепало… А поручик Лев Николаевич Толстой — геройский был офицер, что тебе из пистоли стрелял, что шашкой рубал…
Фет вздохнул, хотел сказать: «А брехун ты, братец!», но сдержался.
До самого причала ехали молча, и лишь когда к пристани подошел паром, Фет сказал вознице, вкладывая в свои слова иронию:
— Передам от тебя привет Льву Николаевичу… Помнит, небось, своего геройского унтера…
Возница отвернулся. Пробубнил:
— Не служил я под его началом, ваше благородие. Ныне многие на графе зарабатывают…
— Не служил?
— Так точно, не служил. А служил я под началом Тополчанова — тоже геройского командира.
Фет только сейчас заметил, что на груди у старого унтера кресты да медали. И только сейчас Фет увидел, что вместо ноги у возницы деревяшка.
— Прости, братец, сказал Фет, а я о тебе бог знает что подумал. Прости великодушно…
Над Северной стороной плыли облака и тучи, обещая дождь, но дождя не было…
«Ах, почему я не умею говорить по-русски!»
Четырехтрубный пароход «Квакер-Сити» подошел к причалу Ялтинского порта. Погода была по-настоящему крымской, душной, безветренной, и многозвездно-полосатый американский флаг уныло повис на гафеле. Пароход привез кругосветных путешественников и путешественниц…
Сейчас Ялту не удивишь приходом корабля под любым национальным флагом, но тогда, в 1867 году, это было событием.
Ялтинцы приветствовали туристов, рассматривали замысловатые наряды богатых иностранцев, сверкающие неподдельными бриллиантами броши туристок… Несколько таких брошей равнялись стоимости и всего парохода и пожизненному жалованию капитана «Квакер-Сити» мистера Дункана.
Но меньше всего смотрели на молодого человека в строгом черном костюме. Впрочем, пиджак он держал в руке, и в светлой своей рубашке вполне сошел бы за местного жителя. Так чего к нему присматриваться?! Увы, кто мог знать!.. Забыты и канули в Лету фамилии путешествующих рантье, держателей акций и обладательниц бриллиантов, а имя этого человека принадлежит сегодня всему миру. И если нам известно о кругосветном путешествии «Квакер-Сити», то только благодаря ему. Звали этого молодого американца Самюэлем Клеменсом, он же — Марк Твен.
Но если бы ялтинцы и имели возможность заглянуть в таможенный список, то все равно не узнали бы о принадлежности молодого американца к журналистской и писательской братии. Твен вспоминает:
«…Пароходный писарь трудится над списком пассажиров для таможенных властей, причем составляет его по своему разумению, например:
«Мисс Смит, 45 лет, из Ирландии, модистка». (На самом деле это молодая и богатая дама.)
«Марк Твен из Гарра дель Фуэго, кабатчик…»
Да, к Самюэлю Клеменсу не присматривались: был он слишком обыкновенным, и на нем не было сияющих алмазных звезд… И на «Квакер-Сити» он оказался не потому, что у него обнаружились лишние доллары. Просто владельцы сан-францисской газеты «Альта-Калифорния» уплатили за проезд начинающего писателя и журналиста в надежде, что его бойкое перо возвратит истраченную на него солидную сумму… Что ж, газетных воротил в недальновидности не упрекнешь…
Пробыв в Ялте несколько дней, «Квакер-Сити» взял курс на Севастополь.
Между тем положение «кабатчика из Гарра дель Фуэго» было довольно сложным.
«…Я потерял свой паспорт, пишет Мерк Твен, и отправился в Россию с паспортом своего соседа по каюте, который остался в Константинополе. Прочитав его приметы в паспорте и взглянув на меня, всякий сразу увидел бы, что у меня с ним сходства не больше, чем с Геркулесом. Поэтому я прибыл в севастопольскую гавань, дрожа от страха, почти готовый к тому, что меня уличат и повесят».
Но страхи были напрасны, таможенники в паспорта не заглядывали…
Твен знал о Севастополе многое, знал о беспримерном подвиге русских воинов и матросов во время обороны 1854-1855 годов, знал, что стоила городу его длительная осада союзниками, но то, что он увидел, поразило его до глубины души.
Из записных книжек писателя видно, какую боль вызвали в его сердце севастопольские пепелища:
«…Помпея сохранилась куда лучше Севастополя. В какую сторону ни глянь, всюду развалины, одни только развалины! Разрушенные дома, обвалившиеся стены, груды обломков — полное разорение. Будто чудовищное землетрясение всей своей мощью обрушилось на этот клочок суши. Долгих полтора года война бушевала здесь и оставила город в таких развалинах, печальнее которых не видано под солнцем… Тут и там ядра застряли в стенах, и ржавые слезы сочатся из-под них, оставляя на камне темную дорожку…»
Пока Марк Твен «пропитывался» Севастополем, богатые туристы охотились за сувенирами — благо они на каждом шагу!
Сувениры — маленький бизнес. В Америке можно выгодно продать чугунные ядра и кости защитников Севастополя. Писатель с сарказмом вспоминает о своем соотечественнике Блюхере: тот завалил всю каюту сувенирами, которые потом хотел продать своей богатой тетушке. Каждый сувенир у Блюхера был помечен. На одном из экспонатов он повесил такой ярлычок: «Обломок русского генерала»…
Марк Твен записывает:
«…Я вынес его на свет, чтобы лучше разглядеть, — это был обломок лошадиной челюсти с двумя уцелевшими зубами.
— Обломок русского генерала! — сказал я сердито. — Экая чепуха. Неужели вы так ничему и не научитесь?
— Не кипятитесь, старушка ничего не заметит, — только и ответил он.
…Блюхер… не церемонился со своими экспонатами… Я сам видел, как он расколол камень пополам и на одну половину наклеил ярлычок: «Обломок кафедры Демосфена», а на другую: «Покров с гробницы Абеляра и Элоизы…»
Я, конечно, протестовал против столь грубого посягательства на истину и разум, но все было напрасно. Всякий раз он преспокойно отвечал: «Это не имеет значения — старушка ничего не заметит»… Что ж, он ничуть не хуже других… Теперь у меня до самой смерти не будет доверия ко всяким сувенирам и реликвиям…»
Марк Твен удивлялся беспардонности своих соотечественников, а те, в свою очередь, удивлялись ему: что находит преуспевающий журналист в этом хаосе камня и полном запустении, в этом до ужаса призрачном городе?..
А Марк Твен, отбившись от своей группы, ходил по бывшим улицам, заходил в бывшие дома, от которых сохранились остовы да печные трубы, дышал воздухом, который все еще был настоен на гари, порохе и человеческом горе.
Добровольные гиды — мальчишки и отставные матросы — водили Твена по городу, старались объясниться на пальцах, записывали в его журналистский блокнот слова по-русски. Находились среди них знатоки английского языка. Те давали более толковые пояснения:
— По расчету Тотлебена, неприятель выпустил во время осады 1 356 000 артиллерийских снарядов и более 28 миллионов ружейных пуль… Из артиллерийских снарядов, выпущенных во время осады, можно было сложить пирамиду, имеющую 455 квадратных метров в основании и 87 метров в вышину. А из ружейных патронов — возвести не менее грандиозную колонну: 5 квадратных метров в поперечнике и до 109 метров в высоту…
Твен не старался запомнить цифры, но сейчас они были красноречивее слов. Вот тогда-то в его записной книжке появились слова об «отчаянной доблести русских» и «Ах, почему я не умею говорить по-русски!»
…В Севастополе, в одном из уцелевших домов, американцам устроили банкет. Царский сановник, присутствовавший на банкете, предложил путешественникам нанести визит вежливости императору Александру II — он отдыхал тогда в своем Ливадийском дворце.
Твен понимал, чему они обязаны проявлением царской «милости». Дело в том, что всего за два года до этого закончилась в Америке гражданская война — так называемая война Севера и Юга. Победили, как известно, северяне. Южане-рабовладельцы вынуждены были освободить негров-невольников. А русский царь рядился в тогу освободителя крестьянства и формально был на стороне прогрессивных северян.
Американцы попытались ускользнуть от приглашения и срочно отчалили в Одессу. Но в Одессе их «изловил» американский консул Смит и заставил развернуться в обратном направлении. Стало ясно: встречи с самодержцем всероссийским не избежать. А раз так, то необходимо было составить приветственный адрес. Кому как не Марку Твену поручить это! И он написал.
Этот адрес — первое произведение Марка Твена, напечатанное по-русски раньше, чем на языке подлинника. Опубликован адрес 24 августа 1867 года в газете «Одесский вестник».
Не улыбался бы царь, принимая письменное приветствие, если б мог заглянуть в будущее. Почти полвека спустя той же рукой будет написано: «…мои симпатии… на стороне русской революции. Об этом и говорить нечего… Некоторые из вас, даже убеленные сединами, еще могут дожить до того благословенного дня, когда цари и великие князья будут такой же редкостью на земле, какой они являются в раю…»
Что ж, по отношению к российским царям да князьям он оказался прав.
Не с великой охотой писал Марк Твен послание царю. В записной книжке появляется короткая пометка: «…Без возни с этим адресом я дописал бы корреспонденцию в «Нью-Йорк трибюн» и уже заканчивал бы вторую в Сан-Франциско…»
Исследователи творчества американского классика по-разному высказывались о злополучном послании. Писали даже, что через этот адрес Твен хотел выразить добрые чувства простых американцев ко всему русскому народу. И для этой цели выбрал форму почтительного обращения к царю.
По-моему, дело обстоит не так. И вот почему: Твен знал, что русский народ в большинстве своем неграмотен и угнетен и вряд ли когда-нибудь прочитает адрес, преподнесенный царю. Но Марк Твен не был бы Марком Твеном, если б в благопристойные по форме строки не подбавил чуточку сарказма. Посудите сами. Адрес Александру II начинался так: «Составляя небольшое общество частных лиц, граждан Соединенных Штатов, путешествующих для развлечения, без всякой торжественности, как подобает нашему неофициальному положению, мы не имеем иного повода представиться вашему императорскому величеству, кроме желания заявить наше признательное почтение…» И так целая страница затейливой словесной вязи.
Простые матросы «Квакер-Сити» первыми угадали саркастическое подводное течение в этом адресе и посмеивались над ним на протяжении всего пути следования до Америки и Марк Твен вполне разделял их взгляды. Иначе он бы не оставил в своем дневнике такую запись:
«…Третий кок, надев на голову блистающий медный таз и величественно задрапировавшись в скатерть, усеянную жирными пятнами и следами пролитого кофе, со скипетром в руке, до странности напоминавшим скалку, шествовал по ветхому половику и взгромождался на кабестан в ореоле морских брызг. Вокруг него толпились камергеры, князья и адмиралы, обветренные и просмоленные, в роскошных одеяниях из обрывков брезента и старых парусов. Затем появлялась вахтенная команда, преображенная в нежных леди и изысканных джентльменов с помощью странных подобий кринолинов, фрачных фалд и лайковых перчаток… «Консул», перепачканный известкой палубный матрос, извлекал из кармана грязный клочок бумаги и начинал читать:
«…Составляя небольшое общество частных лиц…»
Император: Какого же дьявола вас принесло?
«…Кроме желания заявить наше признательное почтение государю императору, которое…»
Император: А, к черту этот адрес. Дочитайте моему полицейскому. Камергер, отведи их к моему брату, великому князю, пусть их там покормят. Прощайте. Я в восторге. Я восхищен. Я вне себя от радости. Вы мне надоели. Прощайте! Ну, сказано — очистить помещение!.. Старший конюх, приказываю тебе немедленно приступить к проверке ценных вещей во дворце!..»
Такую реакцию вызвало послание, сочиненное Марком Твеном. Тут уж, как видим, нужно говорить не о ложке сарказма в бочке славословия, а наоборот…
Марку Твену понравился юг России, понравились Одесса, Ялта и Крымские горы, которые он сравнивал со Сьерра-Невадой… И все же самые взволнованные строки в его книгах и записных книжках — о Севастополе. Недаром, несмотря на свою ярко выраженную нелюбовь ко всяким сувенирам, он записывает в дневнике: «Побывал на Редане и на Малаховом. Принес несколько пушечных ядер…»
Эти ядра с Малахова кургана он хранил всю жизнь.
Следствие по делу «Черного принца»
Речь пойдет об английском пароходе «Черный принц», потопленном неподалеку от Севастополя, и о советском писателе Михаиле Зощенко.
На первый взгляд кажется, что никакой связи между ними нет. Но это только на первый взгляд.
В дневниковой записи Михаила Зощенко есть такие строки: «В январе 1936 года мною задумана повесть «Черный принц»…
Большинству читателей Михаил Зощенко известен как сатирик, и в читательском сознании произведения его прочно увязываются со словом «юмор». А тут — «Черный принц»! Строгая, документальная проза. Недаром критики сразу подметили, что эта повесть стоит несколько особняком во всем творчестве писателя.
Повесть «Черный принц» интересна сама по себе. Но нас сейчас интересуют выводы, которые из нее вытекают, и та скрупулезная следовательская работа, которую проделал писатель.
Чтобы уяснить суть этой работы, необходим небольшой экскурс в историю.
Как сообщают энциклопедии и крымские путеводители, «Черный принц» прибыл в Балаклаву в ноябре 1854 года. Это был первый год Севастопольской обороны. Пароход привез для своей армии амуницию, медикаменты и тридцать бочонков золота в английской и турецкой валюте на сумму свыше двух миллионов рублей— жалованье английскому войску за разбой под стенами Севастополя.
Кстати, о двух миллионах. Я привел данные только из одного источника. А если полистать другие, то можно узнать, что «Черный принц» вез «как известно, двести тысяч фунтов стерлингов…», «на этом корабле было до десяти миллионов рублей одной золотой монеты…», что «золота было в двадцати бочонках на сумму около пяти миллионов…». А Александр Куприн утверждал: «…золото достигает огромной суммы — шестидесяти миллионов рублей звонким английским золотом…».
Всюду, как видите, приводятся «точные» цифры. И только в Большой энциклопедии, выпущенной издательством «Просвещение», сказано весьма уклончиво: «…бочонки с золотом на огромную сумму…»
Но не будем слишком придирчивы. Для нас пока ясно главное: «Черный принц» имел на борту золото…
24 ноября 1854 года над Балаклавой разразился ураган невиданной силы. Вражеский флот разметало по бухте, и около тридцати кораблей пошло ко дну. А у самого входа в Балаклавскую бухту на глубине пятидесяти метров нашел свое последнее пристанище и «Черный принц», а с ним жалованье английской армии и флоту…
Окончилась Крымская война. Забыты те тридцать кораблей, которые затонули в Балаклавской бухте, и лишь «Черный принц» не дает покоя многие годы. Как же! Ведь на нем было золото, а золото, как известно, не ржавеет, и рыбы им не питаются.
Многие страны пытались извлечь золото из балаклавских глубин, но тщетно. Поработали здесь французы и немцы, американцы и норвежцы, итальянцы и японцы…
С одним из косвенных участников японской экспедиции мне довелось встретиться.
Однажды я услыхал фамилию — Капитанаки. Где мне встречалась эта фамилия? Уж не куприновский ли это «листригон»? А если так, то где его искать?
В поисках помог сам Александр Куприн: «…добрая треть балаклавских жителей носит фамилию Капитанаки, и если вы встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки, будьте уверены, что он сам или его недалекие предки — родом из Балаклавы…»
И точно, Капитанаки безвыездно прожил в Балаклаве всю свою жизнь.
…Петру Ивановичу Капитанаки далеко за семьдесят. Старик за долгую свою рыбацкую жизнь насквозь проветрен, просолен, просмолен. Несмотря на греческое происхождение, говорит по-русски чисто, без акцента:
— Японцев хорошо помню. Вместе с ними работал — ихнюю экспедицию обслуживал… Помню, сообщили из Севастополя, что японцы прибывают в Балаклаву, ждите их в конторе. Конечно, всем интересно посмотреть на японскую экспедицию, полная контора народом набилась… Ждем час, другой, а их все нет и нет… Тут прибегают мальчишки и кричат: «Тю на вас! Пока вы махорку с ушей струхиваете, японцы с рыбаками водку глушат!» И точно: вся японская команда на берегу вместе со своим переводчиком Кото…
Капитанаки назвал Кото переводчиком. Это так и не так. Да, Кото хорошо знал русский язык, но переводчиком был, так сказать, между делом. Был Кото представителем японской водолазной фирмы, и это он пожелал войти в «комиссию» с советским ЭПРОНом — экспедицией подводных работ особого назначения — с тем, чтобы поделить золото «Черного принца». И вообще, фирма «Синкай Котоссио Лимитед» предлагала извлечь со дна наших морей все затопленные корабли.
Фирме и ее представителю-компаньону Кото вежливо ответили, что наш ЭПРОН сам справится с кораблями, затопленными в Черном море. А что касается «Черного принца» и его золота… Пожалуйста, поднимайте, разумеется, на приемлемых для вас и нас условиях…
— …Японцы, конечно, водку не глушили, даже не попробовали, а наши рыбаки, врать не стану, приложились к стаканчику. И по пьяному делу врут напропалую… Кото спрашивает: «Как, по-вашему, есть ли золото на утопшем корабле?» «А как же! — отвечают. — Сами доставали. Некоторые даже очень разбогатели на этом деле!» Японцы улыбаются, по сердцу им такие слова. Но, видно, все же сомневаются. Кото, значит, снова спрашивает: «Чего ж тогда, если вы так разбогатели, роба ваша рыбацкая, извините, рвань рваньем?» Отвечают: «Да ведь золотишко-то мы пропили… Что ж, рыбаку и выпить нельзя?..»
Память у Капитанаки преотличнейшая, и от него я многое узнал о японцах и «золотом» корабле. Он рассказал мне, что японцы привезли с собой секретную водолазную маску, надев которую можно было уходить на большие глубины и быстро подниматься на поверхность, не боясь кессонной болезни. Рассказывал, как он сам пробовал нырять в маске и достал при этом со дна моря замечательный перламутровый портсигар, рассказал о землетрясении в Балаклаве, после которого японцы хотели бежать из рыбацкого городка, но так и остались — их удержало золото, которое снилось им и которое они «видели» сквозь толщу воды.
Но сам факт, что японцы расспрашивали рыбаков о золоте «Черного принца», немаловажен: несмотря на их «железобетонную» уверенность, сомнения и им были не чужды.
Теперь, когда нам известна в общих чертах история «Черного принца», попрощаемся с Петром Ивановичем Капитанаки и предоставим слово Михаилу Зощенко:
«…Однако давайте попробуем произвести следствие по делу «Черного принца»… Автор этой работы был в свое время следователем уголовного розыска. И вот когда эта профессия нам снова пригодилась. В общем, требуется установить: 1) был ли найденный пароход действительно «Черным принцем» и 2) было ли золото на пароходе».
Странный оборот дела, не так ли? Ведь еще итальянская экспедиция доказала, что найденный ею корабль — «Черный принц»! А очевидец Александр Куприн утверждал в «Листригонах», что самолично присутствовал при поднятии букв, входящих в название «золотого» парохода. Черным по белому он писал: «…от трехмачтового фрегата с золотом, засосанного дном, торчит наружу только кусочек корабля с остатком медной позеленевшей надписи «…ck Pr…»
Зощенко-следователь легко, я бы сказал, грациозно, опровергает «показания» писателя Куприна.
«…Писатель сообщает, что были найдены …буквы: …ck Pr…, то есть буквы от английского названия: «Black Prince» — «Черный принц». Но так как «Черный принц» получил свое название только в легенде и корабль назывался на самом деле просто «Принц», без эпитета «черный», то вся эта история с буквами ничего дельного не говорит… Что касается специалистов морского дела, то их доказательства основывались главным образом на паровых котлах… Но эти доказательства строились на шатких основаниях: будто на балаклавском рейде не было железных паровых судов, кроме «Черного принца». Это основание легко опровергается…»
И действительно, во время урагана, как нам известно, погиб не один «Принц», а без малого три десятка кораблей, среди которых были и паровые.
Зощенко находит в журнале «Универсаль» от 23 декабря 1854 года подтверждение своим мыслям: «В Балаклаве англичане имели чувствительные потери. Девять великолепных транспортов (имеются в виду крупные суда. — Ред.), из которых несколько паровых и между ними «Принц», разбились о скалы…» Михаил Зощенко устанавливает названия паровых кораблей: «Виктория», «Звон», «Мельбурн», «Резолютт»…
Не буду приводить все документы, которые «подшил к делу» писатель Михаил Зощенко, скажу только одно: они очень и очень убедительны…
А что касается золота на «Черном принце», то… «следствие по делу, продолжается: «За то, что золото было, говорит… вся печать… Однако следует немедленно отметить, что о золоте говорит печать, более близкая нашему времени. Более ранняя печать о золоте не упоминает… В отчете английского парламента значится… показание Джона Вильяма Смита…» Заметим, этот отчет был составлен в 1855 году, т. е. по свежим следам событий. В то время к «Принцу» еще не «приклеили» эпитет «черный».
«Показания» Джона Вильяма Смита:
«Я должен был установить, что накладная на шестьдесят тысяч соверенов пришла для комиссариата с этим судном. И хотя я не имел специального приказания в отношении распоряжения этими деньгами, тем не менее я взял на себя ответственность выгрузить их утром в воскресенье в Константинополе и, таким образом, спас их…»
Вот ведь как просто! Когда знаешь о существовании такого документа, вывод напрашивается сам собой. И с этим документом могли ознакомиться заинтересованные люди. Могли, но не ознакомились. И авторы соответствующих статей в энциклопедиях не знали о нем. А Зощенко его разыскал, обнародовал, добавив при этом: «За все восемьдесят лет англичане не проявили активного интереса к своему золоту, лежащему на дне моря. Больше того, почти все страны в той или иной степени приступали к работам либо высказывали желание отыскать затонувшее сокровище. Англия же оставалась равнодушной к своим деньгам… Итак, проверив все, мы склоняемся к мысли, что золота на затонувшем пароходе не имелось…»
Это малая толика доказательств, которыми оперирует Михаил Зощенко. Своими литературными изысканиями он доказал, что не даром ел хлеб в 1919 году на следовательской работе.
Что еще добавить к рассказанному? Лишь то, что свое «следствие по делу» Михаил Михайлович назвал «предположением». Зощенко-следователь знал, что следствие, насколько бы умело оно ни велось, может быть только предварительным. Последнее слово всегда остается за судом.
И «суд» сказал свое слово. Лет пятнадцать тому назад (в начале 60-х годов) англичане официально оповестили мир, что золота на «Принце» не было. И «дело о «Черном принце» можно считать закрытым.
Жаль, что об этом никогда уже не узнает Михаил Зощенко — он скончался в 1958 году.
Перед вами три очерка из задуманной мною книги о выдающихся людях, чья судьба так или иначе связана с Севастополем.
Возникает вопрос: как собираются материалы для подобных произведений? И вносит ли автор что-то свое, доселе неизвестное?
Мой друг Геннадий Ярославцев (с ним вы встретитесь на страницах этой книги), разбирая семейный архив обнаружил рукопись рано скончавшейся поэтессы Антонины Струковой с пометками… В. Г. Короленко. Тут же оказалась и записка Владимира Галактионовича.
Получив этот материал, я опубликовал его в газете «Крымская правда», а затем в журнале «Вопросы литературы» (№ 1, 1976). Вскоре пришло письмо от литературоведа А. В. Храбровицкого, который пишет, что «публикация представляет большой интерес: она уточняет и дополняет то, о чем Короленко писал И. П. Белоконскому в Харьков 19 октября и 2 ноября 1920 года». А. В. Храбровицкий прислал мне копии этих писем и копию неопубликованного письма А. Струковой Короленко. Так стал накапливаться материал для очерка о великом писателе-демократе.
Вот другой пример.
Заместитель директора Херсонесского музея по науке Инна Анатольевна Антонова как-то в разговоре со мной заметила:
— А вы знаете, что Константин Георгиевич Паустовский хотел поселиться в Херсонесе? У меня даже письмо имеется от него. Вот только не найду его никак.
По моей просьбе Инна Анатольевна принялась за поиски. И вот письмо найдено. Удивительное, никому не известное письмо. На основании его и бесед с людьми, знавшими Константина Георгиевича, был написан «Рассказ о Паустовском».
В моем личном архиве хранятся уникальные документы о людях, имена которых давно принадлежат истории, а также воспоминания, письма наших современников — известных писателей и ученых, художников и артистов, военачальников, ветеранов труда… Эти материалы и дают первоначальный толчок для написания очерков.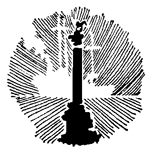
 В областных и центральных газетах как-то промелькнуло сообщение, что в парке Дома творчества «Коктебель» растут синие розы и что самое непосредственное отношение к их цвету имеет мой друг садовник Степан Алексеевич Клименко. Признаться, этому я особенно не удивился: синие так синие. Если существуют розы всех немыслимых цветов и оттенков, так почему не быть и синим? Но когда в одной из корреспонденции я прочитал, что синих роз не удалось вывести никому в мире и что бедный киплинговский влюбленный по этому поводу произнес фразу: «Зря объездил я весь свет — синих роз под солнцем нет», — я тотчас выехал к Степану Клименко…
В областных и центральных газетах как-то промелькнуло сообщение, что в парке Дома творчества «Коктебель» растут синие розы и что самое непосредственное отношение к их цвету имеет мой друг садовник Степан Алексеевич Клименко. Признаться, этому я особенно не удивился: синие так синие. Если существуют розы всех немыслимых цветов и оттенков, так почему не быть и синим? Но когда в одной из корреспонденции я прочитал, что синих роз не удалось вывести никому в мире и что бедный киплинговский влюбленный по этому поводу произнес фразу: «Зря объездил я весь свет — синих роз под солнцем нет», — я тотчас выехал к Степану Клименко…
Синяя роза
Степана Алексеевича Клименко я знаю много лет. Розы — его увлечение, но такое, без которого он не мыслит своего существования. А основная его работа — поддерживать порядок в огромном парке Дома творчества «Коктебель». Он и старается это делать. Да так, что однажды обнял его Константин Георгиевич Паустовский и сказал:
— Я бывал здесь в тридцатые годы — пустырь! С этой точки дача Волошина ветром насквозь продувалась: чахлые кустики на просвет. А сейчас — заросли. Джунгли, в лучшем смысле этого слова. А говорили, здесь ничего расти не может. Как вам это удалось? И за такой короткий срок!..
Мы идем по огромному парку, и Степан Алексеевич рассказывает:
— Кипарисовая аллея. Вот пирамидальный кипарис. А вообще в парке есть кипарисы аризонский, лузитанский, гваделупский… Как я их различаю? Это просто: у лузитанского — концы ветвей свисают и хвоя сизовато-зеленая, у гваделупского — кроваво-красная кора… Я помню время, когда по всему Крыму вырубали кипарис. Кто-то пустил печатный слух, что, дескать, вредны эти деревья для здоровья и не место им в крымских парках. Но благо недолго длилась эта кампания — уцелел кипарис. А сейчас доказано: кипарис выделяет фитонциды, подавляющие развитие туберкулезной палочки… Ну как можно рубить такие деревья!..
А это — лавр благородный. В писательском парке без него не обойтись, — шутит Клименко, — писать перестанут… А это — иудино дерево, или багряник… Дуб пушистый. Неужели не узнал?..
— И все это ты один, Степан?
— Почему же один! Мне многие помогают. Вот тюльпаны французские — подарок Ильи Эренбурга. Сам он их высаживал, сам и вырастил, а я сейчас только посматриваю за ними… Замечу, многие писатели бросили в коктебельскую землю совсем не символические семена и из них проросли цветы самых удивительных названий…
Но настало время вернуться к розам. Степан Клименко пишет в своей книге «Ночная тревога»:
«Розы — мое давнишнее, год за годом не проходящее увлечение. Для нас, садовников, каждый выращенный кустик, каждое деревце — настоящий праздник. А если удалось вывести новый сорт любимого растения, так и вовсе торжество — людям-то какая радость!»
Пятнадцать новых сортов роз вывел Степан Клименко: «Карадаг», «Валентина», «Поэзия», «Сиреневая», «Розовый опал»…
— Слушай, Степа, — сказал я осторожно, — а ты знаешь, зачем я приехал к тебе?
Степан усмехнулся:
— Если бы в твоих руках не было блокнота, то я бы подумал, что ты соскучился по мне и приехал навестить. Сколько лет мы с тобой не виделись? Вечность!
— Это само собой! Но, пишут, в твоих садах растет роза невиданного цвета. Синяя. Хочу ее видеть.
— И ты, Брут! И ты — за сенсацией! Нет синей розы. Тут уж я возмутился:
— Как нет! Ведь писали: «…синий бархат на фоне…»
— А ты статью-то дочитал до конца? Если бы ты был внимательным читателем, то уяснил бы, что синего цвета я действительно добился, но не закрепленного. Понимаешь?
— Что я, совсем без понятия? Химия?
— Она самая. Но нелегко, знаешь, добиться настоящего синего цвета — потребовались годы, Теперь бьюсь над тем, чтобы закрепить цвет. Чтобы не я один имел синие розы, но и ты… Отрезал бы я тебе чубук и… любуйся у себя дома синей розой… Ан нет!
— А я-то думал…
— О чем ты думал?
Действительно, о чем? Будто весь белый свет клином сошелся на синей розе! Конечно, лучше бы синюю розу вырастил Степан Клименко, а не какой-то неизвестный мне мистер Уилсон или герр Шредер, но на нет и суда нет. Да и потом, не все еще утеряно — цвет-то есть, а ее биологический вид тоже не за горами.
— Не журись, Алексеич, синяя роза за тобой! А сиреневая твоя роза… тоже химия?
— Нет, — засмеялся Клименко, — сиреневая в натуре.
— Ну, веди, показывай свое богатство.
Роз — тысячи! Одна красивей другой. И названия у них красивые и загадочные. Вот роза с поэтическим именем «Валентина».
«…Куст с множеством прекрасных светло-оранжево-розовых цветов на красноватых побегах и с блестящими темно-зелеными листьями. Удивительная окраска цветов напоминала нежный какой-то, чистый и радостный румянец на девичьем лице, а удлиненные полураспустившиеся бутоны, будто смущенно улыбающиеся солнцу, еще более усиливали сходство розы с юной девушкой, почти девочкой…»
— Но почему все-таки «Валентина», Степан? Почему не Мария или Оксана? Имена тоже достаточно поэтические.
И я услышал историю… Концлагерь находился неподалеку от Симферополя, и группа пленных бежала из него. А вела их девушка по имени Валентина. Может быть, у нее было другое имя, но в памяти людской она осталась под этим. Изголодавшиеся, раненые бойцы не могли уйти далеко, гитлеровцы настигали их, и тогда Валентина отвлекла карателей от основной группы. Многие сумели скрыться, а Валентине…
Ее казнили на одной из площадей Симферополя. Но люди не забыли о ней.
И этот куст необычных роз, выведенный Степаном Клименко, говорит не только о красоте и мужестве человека, но и о памяти…
— Я понимаю, Степан, «Валентина» — это символика. А как ты вообще даешь название новому сорту?
— Настоящее название — всегда поиск. Роза говорит о себе своей формой, окраской, оттенками, ароматом…
— Это в тебе заговорил литератор, Степан Алексеевич. Ты поясни на примере. Вот этой розе ты дал имя «Поэзия». Я понимаю, роза с таким именем просто обязана быть в парке Дома творчества. И я не удивлюсь, если встречу здесь цветок по имени «Проза».
— До «Прозы» я еще не дошел, — засмеялся Степан, — а почему я назвал розу «Поэзией», поясню… Родители есть у всех — цветы не исключение. Мать «Поэзии» — «Глория Деи», отец — «Кирстен Паульсен». От таких именитых родителей можно ожидать хорошее потомство. С нетерпением ждал я первого цветка — какова будет дочка? Для тебя сейчас события промелькнут мгновенно, а для меня это были томительные годы… Сеянцы подросли, и на одной из веток распустился долгожданный цветок: снаружи бутон — красный, а внутри — желтый. Целый месяц цветок был в гордом одиночестве, а потом на этом же кусте появились новые бутоны. Десятки бутонов — все разные! Хотелось закричать, что в эксперимент вкралась ошибка, что так на свете не бывает! Но так было… С этого дня началась чехарда: бутон был красный, а открылся и вдруг стал желтым. Через день посветлел, а еще через несколько изменил цвет на белый и лишь кончики лепестков нежно заалели. Алость все более усиливалась, и на третий день цветок принял нежно-розовую окраску.
— Нежно-розовый — цвет распространенный, — сказал я, — выходит, что и у гениальных родителей вырастают обыкновенные дети? Все как в жизни.
— Ты прав, бывает. Но не в нашем случае: цвет из нежно-розового стал красным, как горный мак… Но если б этим все ограничилось! Роза не остановилась на красном цвете: края лепестков потемнели и превратили розу поначалу в ярко-красную, а затем… Угадай?
— Разве тут угадаешь!
— Вот именно! Роза стала черно-бархатной.
— Чудеса! Теперь понятно, почему — «Поэзия».
Клименко неожиданно расхохотался:
— Тогда я назвал ее «Хамелеоном». Да, да, именно «Хамелеоном». И… поторопился. Ты посмотри на куст: сколько на нем одновременно красок и оттенков! Вот уж воистину: больше стихов, хороших и разных!
— Поэтов, Степан! Больше поэтов, хороших и разных.
— Стихов — тоже. Но не будем спорить: в этом гибридном кустике отразилось все, чем богаты розы вообще…
— А изменчивость цвета? — ехидно спросил я, примеривая к ней начальное имя.
— Это не изменчивость, просто молодая роза ищет свой цвет, как ищет его настоящий художник, как поэт ищет единственно верное слово. Хамелеон приспосабливается к окружающей среде, а моя роза, пройдя через все цвета, ищет свой, который бы выражал только ее одну. Она еще не нашла его, но роза в творческом поиске. Теперь ты понимаешь, почему — «Поэзия»?
Понимаю, все понимаю, друг ты мой, Степан Клименко. Ты рассказывал о розе, о поисках названия и, хотел ты того или не хотел, о своем характере, о себе как о художнике, ищущем свой единственный, неповторимый цвет. О себе как о человеке, единственном и неповторимом…
Скворушка, сердолик и Кара-Даг
Степан Клименко — вы это уже успели заметить — не только выращивает деревья и цветы, но и пишет книги. Нет, не научные, как, скажем писал Иван Мичурин, а художественные. И не только о растениях, но и о животных, жизнь которых он тоже знает превосходно.
Однажды осенью, когда мы со Степаном открыли калитку его дома, нас встретили собака Кузьма и кошка Димка. Робко и виновато подошли они к Степану, пытаясь оттолкнуть друг друга.
Было ясно, до нашего прихода у кошки с собакой произошел «крупный разговор». Димка (она, а не он) строила Кузьме устрашающие физиономии.
— Все верно, — пошутил я, — живут как кошка с собакой. Степан засмеялся:
— Ребята! — это он к своему зверью обратился. — Димка! Кузя! Не конфузьте меня перед гостем, пожалуйста. А ну, немедленно помиритесь!
И злющая, с моей точки зрения, кошка Димка подошла к разгневанному псу Кузьме, который, впрочем, успел сменить гнев на милость, обняла его морду лапами, и… они чмокнулись — мир был восстановлен.
«Братьям нашим меньшим» Степан Клименко посвятил много рассказов. Он умеет «прочитывать» характер животного, что чрезвычайно трудно.
Долгое время в оранжерее Степана жил скворец. Мало-помалу птица научилась говорить. Скажем, не бегло, но с десяток слов могла перековеркать. Скворец привязался к Степану, как может привязаться только… собака. Он сидел у него на плече, когда Клименко смотрел фильм в летнем кинотеатре. Сидел не шелохнувшись и лишь изредка выкрикивал гортанно: «Э-э-эр-рр-рун-да!..» Степан купался в море и скворец лез за ним в воду, смешно топорща перья.
Но природа есть природа, у нее свои права и законы: улетел Скворушка. Совсем улетел в жаркие края. Да Степан и не удерживал его.
Но Клименко не был бы коктебельцем, если б еще сердолики не полонили его сердце. Сердолики и яшмы, опалы и агаты, трасы и пириты, ониксы и моховики… Светло-оранжевые, кроваво-красные, желтые, розовые агаты, розоватые жемчужины, черные, будто крыло ворона, гагаты, отполированные срезы огненной яшмы, яшмы с вкраплением халцедона — радужное многоцветье Кара-Дага. Разве можно не поражаться природе, если лик ее так многообразен и неповторим!
Степан Клименко навечно «болен красотой», и, когда он говорит о карадагских самоцветах, о камнях, как о живых людях, которые, подобно талантливому собеседнику, обогащают душу, к которым и относиться надо бережно, человечно, глаза его горят и весь он преображается.
— Если будет сносная погода, — говорит Степан, — завтра сведу тебя на Кара-Даг. Кузя! — это он собаке. — Проверь погоду!
Кузя метнулся за калитку и тут же возвратился. Завилял хвостом.
— Не лает, — улыбнулся Степан, — значит, завтра будет хорошая погода.
— А как он определяет? — решил я больше ничему не удивляться. — Небось на глазок?
— На глазок, — подтвердил Степан. — Пойдем, и тебя научу. Думаю, что ты окажешься более смышленым учеником, чем мой Кузьма Иваныч… Видишь ту гору? Она называется — Святая. Над ней сейчас нет ни облачка — значит, завтра ожидай хорошую погоду. А если вершина в облаках…
— Не надейся, рыбак, на погоду! Так?
— Так, — подтвердил Степан, — говорил, что ты сразу усвоишь…
С утра начинаем знакомство с Кара-Дагом. Как говорят путеводители, на Кара-Даг можно пройти, по крайней мере, четырьмя маршрутами, лучше всего — от улицы Айвазовского. Но мне эти советы ни к чему — дом Клименко как раз и находится на улице Айвазовского, да и сам Степан Клименко — живой путеводитель.
Пес Кузьма, который изучил дорогу не хуже своего хозяина, привычно тянет нас вперед — тоже, видать, интересуется природой. Но я на Кузю не обращаю внимания — не умеешь говорить, не лезь! Веди, Степан Клименко, по путям-дорогам туристским!..
И вот он перед нами — знаменитый Кара-Даг, «черная гора»…
— Гора — не совсем точно, — поправляет Клименко.
— Так во всех путеводителях сказано.
— Не во всех. В старых путеводителях «Кара-Даг» переводят как «черный лес». Лес — понимаешь? И еще — «лесистая гора»… Черная лесистая гора…
Кара-Даг называют Меккой минералогов. И совершенно справедливо: в Крыму известно около двухсот названий минералов, и больше половины их находится здесь. Если природа несколько «сэкономила» на растительности, то в цветовой гамме минералов нe могла удержаться и показала, на что она способна при хорошем настроении.
— Удивительная местность, — сказал я.
— Удивительная, — согласился Степан, — здесь все есть, как говорится от Ромула до наших дней, — и он продекламировал:
По картам здесь и город был и порт.
Остатки мола видны под волнами.
Соседний холм насыщен черепками
Амфор и пифосов. Но город стерт,
Как мел с доски, разливом конных орд.
И мысль, читая смытое веками,
Подсказывает ночь, тревогу, пламя
И рдяный блик в зрачках раскосых морд.
Зубец, над городищем вознесенный,
Народ зовет «Иссыпанной короной»,
Как знак того, что сроки истекли,
Что судьб твоих до дна испита мера,
Отроковица Эллинской земли,
В венецианских бусах — Каллиера!
— Степан, да это же описание раскопок на Тепсене!
— Верно! — и неожиданно добавил: — А знаешь ли ты, что Планерское — бывший Коктебель — сыграло свою роль в развитии авиации?
— Эта гористая местность?!
— Да, сударь. И не просто «сыграло». Коктебель — это и первый слет советских планеристов, и первые шаги в авиацию Ильюшина и Антонова, и начало пути Сергея Королева. А ныне в нашей гористой местности — музей планеризма, кстати, первый и единственный в стране…
— Вот это да!
— А ты думал! — засмеялся Степан.
Степан Клименко неутомим. Не скажу, что мы в один день прошли по всем возможным маршрутам, но увидели мы многое: облазали гору Святую, которая «подарила» хорошую погоду, прошли по Южному перевалу и любовались седыми травами и оголенными глыбами хребта Кок-Кая… Сфотографировали мыс Хамелеон, окаймленный белой бахромой прибоя, блуждали по «лесу ужасов» Хобе-Тепе и удивлялись причудам природы, создавшей фигуры «Коня-пряника», «Сокола», «Пирамиды»… Любовались «продуманным» беспорядком Карагача…
Степан смотрит на меня хитрющими глазами:
— Я не спрашиваю тебя: приедешь ли ты еще в наши края.
— Ты не спрашиваешь, а я отвечу: приеду обязательно. И спасибо тебе, Степан Клименко, за эти фантастические горы, за это море и за синюю розу, которую ты обязательно вырастишь.
 «Самое синее в мире, самое прозрачное море у берегов Батилимана», — утверждают туристы из Москвы, Ленинграда, Горького, Казани и других городов.
«Самое синее в мире, самое прозрачное море у берегов Батилимана», — утверждают туристы из Москвы, Ленинграда, Горького, Казани и других городов.
«В Батилимане самый чистый воздух», — говорят они же, и к их мнению присоединяются тысячи других туристов из иных, не менее славных городов нашего Союза.
«В джунгли! В пампасы! К черту на кулички!» — этот лозунг выбрасывают мои друзья, собираясь в путь-дорогу. И я знаю, их маршрут лежит в Батилиман.
Так в каком царстве-государстве находится это удивительное место? Как туда попасть? Поездом? Автобусом? На ковре-самолете?
Батилиман
Добраться до Батилимана сейчас несложно. Все автобусы, идущие из Севастополя на Ялту, проходят около Батилимана.
Раньше доезжали до села Орлиного, а оттуда — пешком. Новая автострада разрешила все транспортные проблемы…
Лучи солнца с трудом пробиваются сквозь зеленую крышу туннеля, и лишь особенно настырные лучики находят щелки и полосатят дорогу. Начало дороги довольно широкое, но вот она становится уже, а зеленый потолок — ниже. Кажется, подпрыгнешь и достанешь рукой.
Дорога лихо вильнула в сторону, предупреждая: «Сейчас начнется!» И действительно, началось: первый полусерьезный поворот, второй — серьезный, третий — устрашающий, четвертый…
Лес резко оборвался, и открылось море с высоты орлиного полета. Нет, лес не исчез, а именно оборвался: дубки, сосенки, можжевеловые деревья, и так не обладавшие аристократическим изяществом, сейчас согнулись, перекрутились, покорежились и по скалистым рваным склонам сбежали вниз.
Внизу — море. Море без конца и края. Сейчас оно глубокое и бесконечное. Из-за одного только моря, этого чуда природы, можно приехать сюда из самого тридесятого царства.
Черное море! Я бы мог привести научные данные, которые убедительно доказывают, чем наше море отличается от всех других морей земного шара и почему оно лучше всех, Но я не буду этого делать: красота не нуждается в доказательствах. Геродот тоже не собирался никому ничего доказывать, о Черном море он сказал просто: «Из всех морей Понт Эвксинский — самое замечательное…»
Внизу под нами — крыши домов. Это и есть Батилиман. Кажется, рукой подать. Но это оптический обман. Еще шагать несколько километров по извивающейся, уже ничем не прикрытой и от того прокаленной чуть ли не насквозь солнцем дороге, проложенной более полувека назад.
Несколько поворотов, и дорога вползает на широкую поляну обрамленную столетними деревьями. Это единственное широкое место вдоль всего пути. Здесь в самое жаркое-прежаркое лето нежно зеленеет трава, и столетние деревья создают тень. Отсюда до Батилимана ходу всего полчаса. Но прежде чем спуститься вниз, присядем, и я вам коротко расскажу о прошлом этих мест… В конце XVIII века район Хайту — Батилиман (Хайту — ныне село Тыловое) принадлежал графу Мордвинову, который собирал с местных жителей арендную плату. Жители выкупили у Мордвинова землю за тридцать семь тысяч рублей. Деньги были немалые, и Мордвинов, должно быть, от радости отдал им в придачу Батилиман, где в то время находилась одна-единственная рыбацкая хижина.
Батилиманские земли еще не раз перепродавались, пока в 1910 году не перешли в собственность Кравцовых…
В Крым выехал глава семейства — Андрей Васильевич Кравцов — с намерением приступить к строительству дачи. Здесь его ждало разочарование: хотя средствами он располагал немалыми их явно не хватало, чтобы отвоевать у природы и людей место под солнцем (земля Батилимана принадлежала общине). Кравцов-старший рассудил мудро: то, что не под силу одному человеку, доступно коллективу. Кравцов создает своего рода кооператив для освоения этого удивительного места. Его компаньонами стали известные писатели, художники, артисты. И летом 1911 года был положен первый камень в здание Кравцовых…
А теперь по тропочке спустимся к морю и совершим экскурсию по самому Батилиману, Начнем свой путь от моря. Вот это продолговатое здание с ажурным балконом и широкими окнами — дача В. Г. Короленко. К сожалению, Владимиру Галактионовичу не пришлось жить в ней. Когда он приехал в Батилиман, был заложен только фундамент, и писатель, прожив несколько дней в шалаше, уехал с намерением вернуться в самое ближайшее время. Однако обстоятельства сложились так, что ему больше не пришлось побывать в заветном уголке.
Правее дачи Короленко, на каменном плато, находится дом, где жил замечательный русский художник Иван Яковлевич Билибин.
Билибин вошел в русское искусство как самобытный мастер книжной графики. Иллюстрации Билибина к сказкам Пушкина привлекают затейливой выдумкой и мягким лиризмом. Но неверно считать Билибина только иллюстратором сказок. Многие его рисунки воспринимаются как сатира.
Одной из самых оригинальных работ последних лет были его иллюстрации к сборнику былин «Героическое прошлое русского народа». Работу над этой серией художник начал в 1939 году и продолжил во время Отечественной войны в Ленинграде. Он не уехал из осажденного города, считая, что «из осажденной крепости не бегут, а обороняются…»
Билибину не довелось дожить до победы — он скончался в 1942 году.
Картины и рисунки Билибина хранятся не только в музеях — их немало и в частных собраниях. У Валентины Абрамовны Иоффе, дочери знаменитого физика, есть акварель Билибина «Батилиман», подаренная художником ее отцу.
Если следовать по дороге дальше, то окажемся вскоре у дачи Андрея Кравцова. Кравцов построил два дома: верхний — для себя, а нижний — для сына Вадима. Верхний особняк — самое изящное по архитектуре и самое большое в Батилимане здание. По наружным его стенам множество барельефов на сказочные сюжеты. И здание, и барельефы исполнены по специальным рисункам Билибина, что делает дом уникальным памятником творчества русского художника.
В этом же доме жил и выдающийся советский физик Абрам Федорович Иоффе — муж дочери Кравцова Веры Андреевны.
Любопытна история женитьбы Абрама Иоффе и Веры Кравцовой. О ней мне рассказала их дочь, доктор физико-математических наук Валентина Абрамовна: «Моя мать была самой «несамостоятельной» дочерью Андрея Кравцова. Ее не интересовали ни земли, ни собственные особняки, ни кареты с вензелями. Она хотела одного: учиться! Незадолго до революции мать окончила гимназию в Петербурге и мечтала поступить в институт. Но дед категорически заявил: «Нет!». Невозможно предугадать, чем бы окончилась схватка между отцом и дочерью, если бы мать не встретилась с профессором Политехнического института Абрамом Иоффе. Молодые люди полюбили друг друга и вскоре поженились.
Представляете гнев помещика Кравцова, когда он узнал об этом? Матери было отказано в наследстве, а ее имя запретили даже упоминать. Так продолжалось несколько лет. Но, когда родилась я, бабушка умолила своего деспотичного мужа, чтобы он разрешил приехать дочке с мужем и внучкой на батилиманскую дачу. Старик разрешил. И в 1916 году наше семейство очутилось в Батилимане…»
Здесь Абрама Федоровича застала Великая Октябрьская революция. Он тотчас же выехал в Петроград и в дальнейшем на батилиманскую дачу не приезжал.
На одной из дач жил профессор Георгий Федорович Морозов, человек, оставивший огромное научное наследство. Его перу принадлежит всемирно известное «Учение о лесе». Лес — призвание всей его жизни…
Память о профессоре Г. Ф. Морозове бережно хранят ученые и практики-лесоводы: его именем названа одна из улиц в Симферополе, а на здании Симферопольского университета на мемориальной доске высечено его имя.
Дача гениального русского ученого Владимира Ивановича Вернадского находится у подножия Куш-Кая. С высоты видно, как далеко внизу бьется о скалы море — сюда доносится его глухое ворчанье. Возможно, в редкие дни, когда ученый приезжал сюда, он стоял на этой, усыпанной алыми маками поляне и — не исключено — именно здесь ему в голову пришла мысль, высказанная в одной из работ: «Корни всякого открытия лежат далеко в глубине, и, как волны, бьющиеся с разбегу о берег, много раз плещется человеческая мысль около подготовляемого открытия, пока придет девятый вал…»
В небольшом доме, замыкающем Батилиман, жил врач и писатель Сергей Яковлевич Елпатьевский. В Крыму он был частым гостем. В 1905 году принимал участие в организации маевки в Ялте. После этого комендант Ливадии, он же градоначальник Ялты, полковник Думбадзе, при каждом удобном случае стал высылать писателя-врача из Ялты. А удобный случай — это приезд какой-нибудь особы царской фамилии. По-видимому, Елпатьевскому надоело внимание полиции, и он, дабы скрыться от «всевидящего ока», приобрел участок в Батилимане…
В 1924 году в Батилимане был открыт санаторий Академии наук СССР. И, вне всякого сомнения, батилиманский воздух, море, дикая красота гор создавали обстановку, способствующую полноценному отдыху и работе ученых.
Во время Великой Отечественной войны гитлеровцы появлялись в Батилимане наскоками, но оставили все же свои «следы». Дом Короленко они разрушили, дом Елпатьевского превратили в нужник, на даче Иоффе содержали лошадей… После изгнания фашистов из Крыма почти все здания были восстановлены и отданы самому привилегированному «классу» — детворе.
О дельфинах, Понте Эвксинском и о бутылке из-под шампанского
От развилки тронемся в путь по дороге, уходящей влево, к мысу Айя. Там приволье для туристов, а главное — есть пресная вода.
Змеится узкая дорога, подпираемая причудливыми деревьями, и, кажется, не будь их, она сползла бы в пропасть. Внизу лениво колышется море и резвятся дельфины.
Кстати сказать, нигде мне не приходилось видеть их так часто, как у берегов Батилимана и мыса Айя. Обычно дельфины избегают мелководья, а тут словно забывают о своих привычках, выработанных веками. Вот свидетелем какого случая мне довелось быть…
В мае Батилиман чаще всего пустынен. В июне сюда приезжает отдыхать горластая севастопольская детвора и не менее шумные ватаги туристов. А весной здесь только строители — скоблят, чистят, ремонтируют дачи.
Шофер Саша Синцов с завидной аккуратностью два раза в день доставлял в Батилиман на своем «газоне» строительные материалы. Приезжал он всегда чумазый и запыленный. По горной батилиманской круговерти чистеньким не проедешь! Привезет Саша груз и… бултых в воду! А надо заметить, Черное море в этих местах в мае месяце не просто холодное, а пронзительно-обжигающее. Однако Саша Синцов не боялся ледяной воды.
Наплававшись вволю, Саша выбирал какой-нибудь просоленный валун, выступающий из моря, и, растянувшись на нем, прогревался на щедром солнышке. Лежал он на нем столько, сколько требовалось для разгрузки его машины… В тот памятный день режим его был неожиданно нарушен. Только он устроился на отдых, как мы (мы — это двое рабочих-строителей и автор) услышали слова, совершенно не понятные для нас: «Да отстань, тебе говорят! Не лезь!»
Мы удивленно посмотрели в его сторону: какой еще храбрец решил искупаться? И увидели, как к валуну подплыл дельфин. Выпрыгивая из воды, он старался достать носом Сашины пятки.
Синцов дрыгнет ногой, оглянется, дельфин мигом нырнет и спрячется под водой. Синцов стал злиться. Он подумал, что кто-то из строителей подплыл к нему и не дает спокойно полежать — щекочет пятки.
Терпеть такое издевательство дольше было невозможно: Саша резко вскочил, повернулся и встретился глазами с дельфином… Говорят, что быстрей торпедных катеров ничто не передвигается по морю. Синцов опроверг это мнение. Со скоростью, близкой к скорости света, он преодолел водную стометровку, обдирая тело о камни.
Саша дрожал, голос его вибрировал:
— Зу-зубы… К…кит…Ак…ак…кула…
Мы старались объяснить, что это самый обыкновенный дельфин, ласковый и безобидный, что он просто хотел поиграть, что дельфины — народ веселый… И что, когда они научатся разговаривать… Но Саша все это знал и без нас. Теоретически. А тут он впервые встретился с дельфином, увидел пасть с острыми зубами и хитрые маленькие глазки. Добродушные они или нет — попробуй разберись с перепугу.
А дельфин плавал вокруг камня, на котором минуту назад Синцов принимал солнечные ванны, и смотрел удивленными глазами: отчего на берегу такой шум? И отчего Саша показывает ему кулак?.. Прощальный взмах хвостом, и дельфин, обидевшись, уходит в открытое море…
Вот свидетелем какого случая мне довелось быть. А вообще-то наблюдать здесь, на батилиманском берегу, дельфиньи «цирковые» номера приходилось часто. Видел, как они, словно по сигналу, выпрыгивают из воды, делают сальто или гонят рыбу к берегу. Тогда рыбаки вытягивают свои «самодуры», увешанные рыбами.
Но бывают порой дни, когда дельфины куда-то исчезают. И если вы, пробыв в Батилимане несколько дней, не увидите молодецких дельфиньих плясок, значит, вам не повезло. Крупно не повезло…
Жара. Отбросить бы сейчас рюкзаки и в воду. Но… вначале нужно подыскать место для стоянки и оборудовать палатку.
Остановитесь на минутку и повернитесь лицом к горной гряде. Видите седловину? Это Куш-Кая смыкается с горой Кокия-Кала. Осевшие массивы седловины прорезаны глубокими оврагами, расходящимися веером, — это центр батилиманского оползня. И все, что вы видите вокруг, — хаос камней, обвалы и воронки, искривленные дороги, неестественный наклон деревьев, — не результат землетрясения, как утверждают некоторые, а ежегодная, чтобы не сказать ежемесячная, работа оползня.
На дне глубоких оврагов заметны следы стока воды. Сюда во время дождей собирается вода и рекой сбегает в море. Овраги густо заросли деревьями и кустарниками. Некоторые неопытные (да и опытные, но не знающие местных условий) туристы стараются установить свои палатки именно в оврагах: «Такое великолепное место!»
Не делайте этого! В любую минуту может хлынуть ливень, и палатки сорвет потоком, а имущество и снаряжение унесет в море.
Если свернуть с дороги и подняться наверх, то можно увидеть гигантскую чашу из крупных многотонных глыб. В центре под валунами прячется вода. Этот источник — самый мощный в Батилимане. От него проложен водопровод к дачам. Но воду из него добывать туристам трудно: не каждый в состоянии протиснуться в расщелину, зажатую глыбами. Да и страшновато, что там говорить! Неподалеку есть еще и малый источник, вода которого выходит на поверхность. Найти его не сложно: подходы к источнику заросли камышом…
Идите вниз вдоль оползня-оврага — он тянется до самого моря. У береговой кромки обрыва остановитесь и в нескольких десятках метров от него разбивайте палатку. Место здесь обжитое. Сюда стекаются туристы со всего Союза, и следы бивуаков видны всюду. Есть даже готовые шалаши и столы. А если заглянуть под нависшие глыбы, то можно отыскать ведра, кастрюли, ложки — берите и пользуйтесь. Только не забудьте потом положить все на место!
Установили палатку? Отлично. Теперь берите котелки и за водой. Береговой обрыв, на котором вы так уютно разместились, навис над галечным пляжем и отделен от моря скалами-глыбами. Часть глыб выходит в море и образует мыс. На нем среди камней — выход воды. Кто-то вцементировал в скалу две бутылки из-под шампанского, предварительно выбив дно, и из горлышек бутылок постоянно течет вода. Даже в сильную засуху источники не иссякают.
Некоторые исследователи считают, что в бутылки вода попадает из основного батилиманского источника. Однако есть и другая версия, согласно которой под оползнем скрыты карстовые воды.
Я не исследователь, но склонен верить второму объяснению. Это подтверждает и тот факт, что летом 1966 года верхний источник иссяк и воды в нем, по существу, не было. А из нижних источников-бутылок она продолжала поступать с неослабевающим напором. Мне это хорошо известно: лето 1966 года мы с крымским писателем Василием Маковецким прожили у самого источника и имели возможность наблюдать.
Почему я так подробно рассказал о воде? А потому, что вода — это жизнь. И если вы здесь впервые, то вам будет нелегко найти искусно спрятанные источники. Может случиться и так, что самостоятельно вы их и вовсе не найдете.
Легенды витают над неприступным мысом Айя
И без того узкая батилиманская дорога переходит в тропинку, тропинка — в тропочку, и тропочка эта выводит к мысу Айя. Дикая, первозданная красота: гигантская воронка, а в ней — живописный хаос огромных камней. Камни различных цветов и оттенков: синие, зеленые, рыжие, в светлую полоску и темную крапинку…
Очень может быть, что некоторые наши писатели-фантасты выписывают свои немыслимые марсианские пейзажи с айинской натуры. Это, конечно, предположение, но вот что известно точно: Иван Яковлевич Билибин в свои иллюстрации к сказкам многое привнес от фантастического хаоса у мыса Айя.
Не раз я приходил сюда, на мыс, с батилиманским старожилом Иваном Гавриловичем. Знаком я с ним давно, а вот поинтересоваться фамилией старика как-то в голову не приходило. За глаза, да и в глаза тоже, его называли Стариком или Батей.
Иван Гаврилович знал множество старинных песен, легенд и преданий. Зачастую это пересказ известных крымских и греческих легенд. Но однажды я услышал от него легенду, о которой с уверенностью могу сказать, что был первым ее слушателем.
Мы сидели на валунах и смотрели на море. Было оно злое, бешено рычало и остервенело металось средь береговых скал. Над посеревшими горами висели темно-серые облака, готовые пролиться крупным и совсем не ласковым дождем. Где-то стороной проходила гроза, и зигзаги молний танцевали в небе. В какой-то миг мне показалось, что на земле происходит нечто таинственное, сверхъестественное, и я шепотом произнес:
— Иван Гаврилович, сочините легенду. Старик укоризненно покачал головой:
— Легенды, сынок, не сочиняются. Нужные слова прячутся в скалах, как чайки в шторм… Ну ладно, спугну для тебя одну из них…
Давно это было. Так давно, что даже счет времени шел в обратную сторону. Жило в Таврике гордое и миролюбивое племя горцев. Жили тихо и мирно. Ни на кого не нападали, и на них никто не нападал. Возделывали землю и растили детей. Умные руки горцев научились выращивать на склонах душистый сладкий виноград и розы.
В горных лесах водилось много дичи, а горцы были меткими стрелками. Но они не злоупотребляли оружием и натягивали тетиву лука только тогда, когда им нужна была пища. Селение горцев богатело с каждым годом.
Прослышали о Таврике в далекой Элладе, и задумали греки покорить эту богатую землю.
У берегов Таврики появилось множество кораблей. В них сидели вооруженные зллины. Они хотели под покровом ночи подойти к берегу и напасть на спящих горцев. Но море неожиданно засветилось голубоватым пламенем, и горцы увидели пришельцев. Греческие корабли плыли, словно по серебру. Весла разбрызгивали воду, и брызги мерцали, как звезды. Даже пена у берегов излучала голубой мертвенный свет.
Всполошилось селение горцев. Женщины и дети спрятались в пещеры, а мужчины приготовились отразить натиск. Они поняли, что битва будет не на жизнь, а на смерть: греков было бессчетное множество.
И вдруг словно тучи закрыли звезды. Это гигантские грифы взлетели со скал и устремились к морю. Распластав огромные крылья, они стали кружить над греческими судами. В испуге закричали эллины и закрыли головы щитами. Но тут раздался грозный клекот грифа-предводителя, и птицы своими железными клювами стали долбить деревянные щиты, обтянутые кожей.
Обрадовались горцы, увидев поддержку с неба, и начали сталкивать в воду огромные валуны. Взбунтовалось море, заштормило, поднялись гигантские волны. Такие огромные, что соленые брызги, пробив мрак ночи, долетели до солнца и вызвали дождь. Над морем стоял сплошной стон и грохот.
В страхе повернули эллины свои корабли обратно. Но мало кто возвратился к своим берегам.
С тех пор греки стали называть это море Понтом Аксинским — Негостеприимным морем. И наказали детям своим, чтоб никогда не поднимали оружия против жителей Таврики и чтоб никогда впредь не бороздили суда их Понта Аксинского.
Мало ли, много ли прошло времени с тех пор, только снова стало тянуть греков к солнечным берегам богатой Таврики. Однако они хорошо помнили наказ своих предков, и не тысячи кораблей вышли в Понт Аксинский, а всего лишь пять. И сидели в них не вооруженные воины, а мирные послы с богатыми дарами для горцев. И договорились горцы с греками, и поклялись, что никогда не поднимут оружия друг против друга. С тех пор и поселились эллины вдали от Эллады и счастливо зажили на новообретенной земле. Они выращивали виноград и розы, вели торговлю с горцами и удивлялись: почему такое ласковое море названо Аксинским — Негостеприимным? Нет, это доброе и гостеприимное море. И назвали греки море Эвксинским — Гостеприимным…
Отныне так и повелось: кто идет к Черному морю с открытым сердцем и мирным флагом, для тех оно гостеприимное — Понт Эвксинский. А для врагов наших — Понт Аксинский. Негостеприимное.
— От кого вы слышали эту легенду? Старик приложил руку к сердцу:
— Горы и сердце родили ее.
— Но ведь легенды создает народ! Старик ответил с достоинством:
— А я и есть — народ!
Давно записана легенда о Понте Аксинском и Понте Эвксинском. Недавно я вновь поехал в Батилиман, чтобы послушать шум моря, песнь горного ветра и, что греха таить, записать новую легенду Старика. Приехал и… не застал Ивана Гавриловича в живых. Похоронили Старика в селе Орлином, что стоит на старой дороге из Ялты в Севастополь. Когда будете в Орлином, отыщите его могилу. На памятнике написано: «Костин Иван Гаврилович…» Положите на могилу цветок. Лучше всего горный мак. Старик любил красный цвет…
От мыса Айя берет свое начало Южный берег Крыма, и утес Айя, словно былинный богатырь, сторожит Южнобережье от студеных норд-вестов. Этот утес — один из отрогов Главной гряды Крымских гор, которая, выйдя из глубины Черного моря, опоясывает Южный берег.
Величав и грозен Айя в своей первозданной красоте; внизу под ним гневается, клокочет, кипит и злится бурное в этих местах Черное море. Недаром знаменитый маринист Айвазовский запечатлел на своих картинах несколько кораблекрушений у мыса Айя.
Коварный мыс известен мореплавателям еще с глубокой древности. Старинные лоции Черного моря не советовали парусникам приближаться к нему. На вершине утеса сохранились остатки какого-то строения. Считают, что здесь находился храм и отсюда произошло название мыса: Айя — Святой.
Согласно другой версии, греки построили на Айя маяк, чтобы не разбивались их корабли об острые скалы. Что ж, и в этом предположении есть свой резон.
Академик П. С. Паллас, посетивший Крым в 1793-1794 годах, обнаружил на скале развалины и решил, что здесь когда-то находился византийский монастырь и селение. Последние и довольно убедительные исследования современных археологов говорят о том, что в давние времена на мысе Айя была крепостца Кокия-Исар. Она несла дозорную службу против генуэзцев, обосновавшихся в Чембало (Балаклаве) и зарившихся на юго-западные районы Таврики, которыми владело Мангупское княжество.
Для туристов скала Айя неприступна. Трудным орешком оказалась она и для альпинистов. Если Куш-Кая давно уже стала альпинистским полигоном и по ней даже проложены маршруты различных степеней сложности, то Айя до последнего времени не хотела сдавать своих позиций. Попытка пройти скалу в центральной части — год 1969 — не увенчалась успехом. Но к Айя присматривались… В декабре 1973 года закончилось первенство УССР по альпинизму, и сборная ЦС ДСО «Авангард», в состав которой входили и наши земляки, взошла на вершину Айя по маршруту высшей категории трудности.
…У всего есть начало, а поэтому есть и конец. Попрощаемся с Батилиманом и с мысом Айя, изумительным уголком крымской земли. И будет очень хорошо, если люди догадаются сохранить для потомства эти живописные дикие скалы, эти каменистые труднодоступные берега, этот первородный хаос.
 Балаклава. Башни старинной генуэзской крепости. В сорок первом — сорок втором годах здесь держал оборону 456-й сводный пограничный полк НКВД. Первым поведал миру о героических делах балаклавских пограничников корреспондент ТАСС Александр Хамадан. Не о многом удалось ему рассказать — Хамадан пропал без вести в дни горького отступления. Как впоследствии стало известно, он попал в плен и был казнен фашистами 29 мая 1943 года.
Балаклава. Башни старинной генуэзской крепости. В сорок первом — сорок втором годах здесь держал оборону 456-й сводный пограничный полк НКВД. Первым поведал миру о героических делах балаклавских пограничников корреспондент ТАСС Александр Хамадан. Не о многом удалось ему рассказать — Хамадан пропал без вести в дни горького отступления. Как впоследствии стало известно, он попал в плен и был казнен фашистами 29 мая 1943 года.
И решил я узнать подробности боевой жизни полка, найти оставшихся в живых защитников Балаклавы, записать их рассказы. Этот очерк состоит из свидетельств участников битвы за Севастополь. Свидетельств устных и письменных…
Начало обороны
Вспоминает бывший командир автотранспортной роты И. И. Федосов. В первых числах ноября 1941 года, после страшных боев на Перекопе, войска наши отходили по направлениям: Севастополь, Керчь, Феодосия… Пограничникам было приказано прикрывать отход войск. И мы прикрывали…
Войска ушли, а мы, оказавшиеся в окружении, стали пробираться к Севастополю через Ялту. На пятнадцатые сутки подошли к бухте Ласпи, — противник нас все время преследовал. На берегу обнаружили рыбацкие лодки. Попробовали спустить их на воду, но они сильно текли. Наш командир майор Рубцов приказал законопатить лодки во что бы то ни стало. Противник заметил наш маневр и повел наступление на ласпинский берег. Мы заняли оборону и стали отбиваться…
Рядом со мной из винтовки стреляла врач Зинаида Аридова… Нет, не знаю о ее дальнейшей судьбе… Говорили, что она попала в плен и была расстреляна, но при каких обстоятельствах, неизвестно…
Бой длился до самой темноты, а ночью гитлеровцы отступили. К утру лодки спустили на воду. И… впереди — море!.. А я не ушел. По приказу Рубцова остался с двумя бойцами в бухте Ласпи, чтобы прикрыть — в случае надобности — отход нашей горем сформированной «флотилии»…
Вспоминает бывший командир 1-го взвода 4-й роты 2-го батальона А. И. Сысуев. Мы продвигались с боями к Севастополю. Мы, то есть мой взвод и взвод из Симферополя. В мирное время этот семидесятипятикилометровый путь можно было проделать за день, а тут… За Альмой догнали нас вражеские мотоциклисты, а за ними мы заметили танки. Разбились на две группы и залегли в придорожном рву. Мотоциклы подпустили вплотную и открыли по ним огонь. Одновременно ударили и по танкам. У одного из них сорвалась гусеница, и он, развернувшись поперек шоссе, закрыл продвижение другим. Мы воспользовались этим и оторвались… Через трое суток пробились в Севастополь. Здесь нас зачислили в сводный полк НКВД.
Вспоминает бывший санинструктор 3-го батальона И. К. Калюжный. Мы получили задание занять оборону у высоты 212 — последней перед Балаклавой. При подходе увидели ужасное зрелище: по обе стороны дороги лежали наши убитые бойцы, обгоревшие машины, и даже многовековые тополя были вывернуты с корнем… Стали подниматься на высоту. Подъем крутой! И на всем протяжении — трупы наших курсантов: они первыми приняли тут бой и почти все погибли.
Сурово встретила нас высота 212: режущий, пронизывающий ветер. Мы буквально деревенели от холода. Одно только утешало, что гитлеровцам в такой мороз еще хуже.
Наши пулеметчики заняли те же позиции, которые отрыли для себя курсанты. А они — небольшая горстка оставшихся в живых, обросшие, худые, грязные, — подползали к нам, обнимали и со слезами на глазах говорили: «Браточки, спасибо вам, что пришли… Держитесь и не отдавайте Балаклаву!..»
Ко мне добрался мой хороший знакомый Ваня Олизько. Мы посмотрели друг на друга и дали слово, что если кто из нас останется в живых, пусть обязательно расскажет, что тут было…
О том, что представляла собой Балаклава военного времени, поведал нам неутомимый Александр Хамадан в очерке «Маленькая Балаклава»:
«…От Севастополя до Балаклавы всего километров двенадцать… Тиха, безлюдна Балаклава днем. Пешеходы настороженно жмутся к отвесной горной стене, прячутся за домами. Центральная улица находится в поле зрения фашистов, засевших на вершине горы и на ее скатах. Стоит появиться человеку на мостовой или на противоположном тротуаре улицы, как длинные очереди вражеских пулеметов и автоматов разрезают воздух. Доблестно и мужественно защищает Балаклаву часть подполковника Рубцова: задержала врага, отбила его атаки, закрепилась…
Балаклава — не крепость: городок в двести-триста домов. Балаклава осаждена, и она великолепно защищается»…
Вспоминает бывший командир 6-й роты старший лейтенант С. В. Козленков. В начале апреля 1942 года, во время относительного затишья, вдруг раздался крик: «Бочки!» В это время я направлялся к водонапорной башне. Секундная растерянность — ведь мы еще не знали, как отражать эти адские «снаряды»! — и я неожиданно даже для себя закричал; «По бочке — огонь! Целиться точнее! Огонь!» Тотчас раздался залп, бочка перевернулась и взорвалась на самой середине горы… Через несколько дней гитлеровцы повторили операцию, но мы были наготове и взорвали очередную бочку у самых траншей противника.
Это было потрясающе! Со времени прихода в роту я еще не видел пограничников такими радостными — враг был наказан своим же оружием…
Почему я так подробно остановился на бочках? Потому, что о нашей работе говорили, что мы — смертники и обречены на гибель. Но мы доказали, что можно обороняться в любых условиях, И не только обороняться, но и успешно наносить ответный удар…
Вспоминает бывший пулеметчик Н. С. Соколов. В соседней Роте приспособились подстреливать бочки. Но противник стал хитрить: прежде чем пустить бочку по склону, такой артогонь откроет, что и головы не подымешь. Какое уж тут прицельное попадание в движущийся предмет!..
Вызвал меня капитан Ружников и сказал, чтобы я подобрал себе башковитого напарника и попытался взорвать бочку на вражеской территории.
В «гости» к гитлеровцам мы пошли с Сергеем Любарским и прибыли как раз вовремя — они готовили очередной «сюрприз». Мы затаились и стали наблюдать. Думаем: «Заряжайте, сволочи! Да потуже фаршируйте!»
Зарядили фашисты бочку, затянули днище железом, подожгли бикфордов шнур и столкнули ее вниз. Но далеко мы ей, голубушке, не дали укатиться: бросили по связке гранат, и тут ей пришел конец. Взрыв был настолько сильным, что нас контузило. А ведь мы находились в укрытии!
Через несколько дней наши разведчики сообщили, что бочка эта нанесла врагу немалый урон…
Полстакана молока
…Это рассказ о детях. О детях войны. Семи-восьми-девяти-летних. Сейчас им около сорока и за сорок. Они все помнят. Они ничего не забыли.
Это рассказ о взрослых. В войну им было около сорока и за сорок. Сейчас их нет в живых, и сами они о себе ничего не расскажут…
В горах, неподалеку от линии обороны, находится старая заброшенная штольня Балаклавского рудника. Во время войны в ней укрывались от бомбежек, обстрелов и снайперских пуль мирные жители.
Каким образом в это подземелье попала одна-единственная корова по кличке Звездочка, никто не знал. Да, собственно говоря, этим никто и не интересовался. Главное, Звездочка давала ежедневно несколько литров молока, а в нем нуждались все. Но распределялось молоко строго, как последние патроны: по полстакана на каждого тяжелораненого пограничника, а что оставалось — детям.
Дело в том, что неподалеку от этой штольни находилась еще одна — временный пересыльный пункт медсанбата сводного полка НКВД. А начальником медсанбата была военврач третьего ранга Зинаида Васильевна Аридова.
Тетя Поля — фамилия ее осталась неизвестной — добровольно взяла на себя тяжелые обязанности пастуха и доярки, или, как в шутку ее называли, — «зав. молочной фермой». С нею постоянно и вела переговоры Зинаида Аридова.
Обычно Аридова приходила за молоком, когда темнело. Докладывала:
— Тетя Поля! В медсанбате в данный момент одиннадцать тяжелых.
— Одиннадцать! — всплескивала руками тетя Поля. — Ох, родимые! — Затем она делала вслух несложный математический подсчет:— Значит, одиннадцать, говоришь? По полстакана… Это ж сколько будет?
— Пять с половиной стаканов, — подсказывали со стороны.
— Не мешайте, сама счет знаю! Значит, пять с половиною? Давай, доктор, посуду — буду наливать.
Когда Аридова уходила, тетя Поля тщательно перемеривала остатки. Докладывала собравшимся вокруг нее:
— Цельный литр с четверкой… Будем давать в порядке очередности. Подходите, дети!
Дети худенькими ручками брали стаканы и пили из них маленькими глотками, чтобы как можно дольше растянуть наслаждение, Те, кому не доставалось в этот день молока, со вздохом отходили в сторону и строили свои наивные детские планы: «А вдруг мы завтра просыпаемся и узнаем, что наша Звездочка дала десять литров молока! Целых десять литров!»
Иногда детям везло: военврач отправляла тяжелораненых на Большую землю, и тогда два-три стакана возвращались назад в штольню.
Шли дни. Зинаида Аридова делала свой неизменный рейс: медсанбат — штольня. Но однажды она пришла не такая, как обычно, — на щеках слезы прочертили тропинки…
«У тети Зины какое-то несчастье», — догадались дети, но расспрашивать не стали — война, всякое может случиться. Дети это понимали, они были намного старше своих лет.
— Людмила! — позвала тетя Поля. — Сегодня твоя очередь пить молоко. Тебе повезло, доктор принесла назад твою порцию.
Люда дрожащими от нетерпения руками взяла стакан с молоком и прислонилась к военврачу, чтобы не расплескать его. Аридова нежно погладила девчушку по голове:
— Пей, Людочка, пей, — тихо проговорила она, вся находясь во власти своих мыслей. — Ему уже не надо молока. Ему больше ничего не понадобится… Пей, моя хорошая…
— Кому не понадобится? Кто умер, тетя Зина?
— Пограничник… снайпер… полчаса тому назад. Дорогой мой человек…
Девочка, шатаясь, отошла от военврача и поставила стакан с недопитым молоком на вырубленный в штольне подоконник.
— Да ты пей, пей, — испугалась Аридова. — Что с тобой? — она взяла за руку побледневшую девочку.
— Не могу, тетя Зина, — еле слышно прошептала она, — ведь он меня защищал, а я его молоко чуть не выпила. Не могу…
Так и стоял этот стакан с недопитым молоком в штольне. Стоял долгое время.
Это рассказ о детях. О детях войны. О семи-восьми-девяти-летних. Сейчас им около сорока или чуть-чуть за сорок. Они все помнят. Они ничего не забыли.
Это быль о взрослых. В войну им было около сорока или чуть больше. Сейчас их нет в живых, и сами они ничего не расскажут…
Я долго разыскивал героев моего рассказа. Многие помнили тетю Полю. А вот где она сейчас, не знали. Позже мне стало известно, что тетю Полю фашисты повесили в Балаклаве. Один рыбак, свидетель ее гибели, говорил, что на шее у нее висела табличка: «Я партизанка». Может быть, о ней следовало навести справки у партизан-балаклавцев или в областном партархиве, но я не знаю ее фамилии…
Долго шел я по следам памяти за Зинаидой Васильевной Аридовой. Бывший пограничник Константин Иванович Гречнев рассказал мне:
«В начале января 1942 года произошло это. Гитлеровцы, при сильной поддержке артиллерии и авиации, пошли в атаку на позиции нашего батальона… Мы в большинстве своем были бойцы необстрелянные, и трудно сказать, чем бы кончился бой. Но в самый критический момент, когда казалось, что фашистам и числа нет, что их просто физически невозможно всех перестрелять, на бруствере вдруг выросла женская фигура в белом халате. Это была наша Зина.
— Братишки! — закричала она. — А ну, зададим этим гадам!
Не знаю, может быть, она произнесла тогда другие слова, но одного ее вида было достаточно, чтобы броситься в контратаку. Сотни врагов остались лежать на земле. Но и нашим досталось! После боя нам предоставили отдых. Бойцам, но не врачу. Трое суток мы отдыхали. Трое суток не отходила Аридова от операционного стола…»
После того как в газете был опубликован рассказ-быль «Полстакана молока», я получил письмо из Сак, от бывшей медсестры Марии Яцковой. Из письма этого я узнал, что «Зина была выше среднего роста, худенькая, изящная, с коротко остриженными волосами… В тяжелые минуты любила напевать «Широка страна моя родная…»
М. Яцкова очень подробно рассказала об этой славной женщине; если бы все ею написанное воспроизвести, получилась бы целая повесть. Но что потом стало с Аридовой, Мария Яцкова не знала.
Мне рассказывали, что в горькие минуты отступления ее видели на мысе Феолент. А потом — плен. Концлагерь в Шулях… Военнопленные выстроены на плацу. К Аридовой подходит гитлеровский офицер и двумя пальцами берет женщину за подбородок. Что ей сказал офицер, никто не слышал, но только все увидели, как Аридова отбросила его руку и плюнула фашисту в лицо. В тот же миг ее опрокинули на землю и били, били, били…
«Аридову замучили до смерти» — таково было всеобщее мнение. И все-таки каким-то чудом она осталась в живых, Из концлагеря в Шулях военврач Зинаида Васильевна Аридова попала в Равенсбрюк.
«Адом для женщин» называли этот лагерь, открытый фашистами а 1939 году на берегу живописного озера в восьмидесяти километрах от Берлина… О последних днях Зинаиды Аридовой пишет Н. Харламова, бывшая узница Равенсбрюка, один из авторов книги «Они победили смерть», выпущенной в 1966 году Политиздатом. Из воспоминаний Н. Харламовой узнаем, что Зинаиду Васильевну, включенную в число штрафников, отправили на авиационный завод в Барт. «Там Зина отказалась работать. Она заявила коменданту, что по существующим международным конвенциям ее как военнопленную не имеют права использовать на производстве вооружения.
— О, ты еще помнишь о конвенциях! — расхохотался ей в лицо комендант. — Я заставлю тебя забыть и собственное имя!
Он схватил ее рукой за горло, начал душить. После этого эсэсовец с собакой каждый день приводил Зинаиду в цех, сажал к конвейеру. К ней подбегала надзирательница, толкала в спину, в бока, выламывала руки. Но никакая сила не могла заставить ее прикоснуться к авиачастям, которые проплывали на ленте перед затуманенными, полными слез глазами Зины. Она не выдержала этих страданий. Однажды, когда ее вели через заводской двор, она бросилась на колючую проволоку, через которую был пропущен электрический ток высокого напряжения…»
Так погибла Зинаида Васильевна Аридова — военврач третьего ранга, защитница рыбацкой Балаклавы,
Балаклава. Последние дни
«Бойцы Приморской армии и краснофлотцы отбивают ожесточенные атаки противника на Севастопольском участке фронта… Пехотинцы подразделения Рубцова отбили десятки атак превосходящих сил противника и уничтожили до двух полков и сбили два бомбардировщика противника…»
Из утреннего сообщения Совинформбюро 30 июня 1942 года.
Вспоминает бывший командир 1-го взвода 4-й роты 2-го батальона А. И. Сысуев. В последние дни июня на наш взвод были сброшены сотни тонн взрывчатки. Под прикрытием дымовой завесы противник пошел в наступление на высоту 212… Мы задыхались от дыма и жары. Фашисты били прямой наводкой. Одна из генуэзских башен рухнула, и все, кто находился внутри, были заживо погребены. Батальон нес огромные потери. Некоторые взводы вообще перестали существовать, а в других насчитывалось всего по нескольку человек.
Когда был получен приказ оставить Балаклаву, наш взвод прикрывал отход четвертой роты. Позднее мы заняли оборону в виноградниках…
Вспоминает бывший санинструктор 3-го батальона И. К. Калюжный. Когда солнце поднялось высоко, показалась первая партия вражеских бомбардировщиков. Такое количество самолетов еще ни разу не летало над нашей головой… После сильнейшей бомбежки и артобстрела в расположение 1-го и 2-го батальонов была предпринята психическая атака… Пьяные, в омедненных блестящих касках, в коротких, чуть ниже колен брюках, в крагах, с засученными рукавами рубах, дико горланя, они шли во весь рост… Но наши ребята не дрогнули, подпустили их буквально на пятьдесят метров и уложили из пулеметов…
После первой атаки — вторая, тоже психическая. Против нас бросили эсэсовскую дивизию. Кажется, ее называли «Гейзенкирхен» или как-то в этом роде, точно уже не помню…
Солнце печет беспощадно. Раскаленные камни и воздух обжигают тело. Комиссар полка Анатолий Смирнов ладонью смахивает с лица черные капли пота и оглядывает узкую полоску исковерканной земли. Фашисты — слева, фашисты — справа, фашисты — перед нами, фашисты — над головой… Комиссар пытается по редким выстрелам определить оставшихся в живых пограничников… Очень мало их, и поддержки ждать неоткуда: фашисты прорвались на Северную сторону, заняли Графскую пристань и Приморский бульвар — передний край обороны.
Издалека послышался шум моторов, и вскоре из-за горы показались фашистские танки. Они стреляли на ходу.
— Танки! — закричал кто-то диким голосом.
Солдат вскочил, и комиссар узнал в нем полкового кока Григория Волкова.
— Назад! — скомандовал комиссар.
Но Волков не мог слышать ничего и медленно шел навстречу головному танку. Вид его был страшен: гимнастерки на нем не было, только тельняшка. Прожженная во многих местах, грязная, пропитанная потом и кровью, неуставная тельняшка. В одной руке Григорий Волков держал автомат, в другой — гранату. Обыкновенную противопехотную гранату…
Под гусеницы головного танка Волков упал уже мертвым, и водитель даже не услышал хлопка от гранаты. Погиб Волков, погиб геройски, а танк продолжал двигаться вперед, будто и не было на свете ясноглазого богатыря, любимца полка, кока-снайпера-разведчика Гриши Волкова.
Раздался голос командира полка Рубцова:
— Пограничники! К отражению танковой атаки приготовиться! Пэтээровцы, занять фланги! У кого есть гранаты — ко мне!
С десяток бойцов, поддерживая подсумки, побежали по извилистому окопу на зов командира. С флангов ударили из противотанковых ружей, и головной танк закружил на месте: первым же выстрелом у него перебило гусеницу. Еще залп, и из люка повалил дым.
— Врешь, гад, не возьмешь! — Иван Левкин и из противотанкового ружья стрелял, как из снайперской винтовки. — Это тебе за Гришку! Это тебе за Севастополь!..
Задымил еще один танк, за ним — второй, третий, четвертый… Вступили в действие гранатометчики, и стальная колонна не выдержала, откатилась назад, оставив на поле боя одиннадцать искореженных, пылающих машин.
Командир второго батальона Ружников облегченно вздохнул:
— Кажется, и на сей раз пронесло.
— Пронесло! — подтвердил командир роты Крайнов. — А как дальше будем держаться, товарищ майор? Боеприпасы на исходе.
— Не на исходе, их нет совсем. Надо смотреть правде в глаза. Но люди-то какие у нас, а! — Ружников выскреб из кисета последние крошки махорки, свернул самокрутку и с наслаждением затянулся вонючим дымом. — Когда-нибудь скажут про нас: «Пограничники совершили невозможное. Они смогли на этих каменистых склонах в течение двухсот с лишним дней осады сдержать бешеный натиск. А еще и бить!.. Заметь, Крайнов, война не кончилась, но мы уже история. Да, да, история! Говорю тебе это как бывший преподаватель истории.
— Мечтатель вы, товарищ майор.
— А что? — продолжал Ружников, глядя с сожалением на быстро убывающую цигарку. — Я представляю себе: школа, четвертый класс… Встает из-за парты ученик с белым вихром на голове и с красным галстуком на шее, подходит к доске и указкой водит по карте: «Вот здесь на Черном море есть город Севастополь. В годы войны он сыграл…» И ответит, что сыграл. А потом добавит: «А вот тут находится рыбацкий городок Балаклава. Фашисты пытались захватить Севастополь с этой стороны, так как считали, что один полк, защищавший Балаклаву, не в состоянии сдержать их мощное наступление. Но гитлеровцы жестоко просчитались. У них на пути встал сводный пограничный…» Понимаешь, Крайнов, это мы с тобой встали у них на пути. Мы! Это о нас с тобой будут говорить на уроках истории…
Рубцов склонился над рацией, принимая приказ командующего Приморской армией. Смысл приказа был таков: «Отходите к Херсонесу. Попытаемся вывезти на кораблях. По возможности прорывайтесь к партизанам».
Уничтожив документы, взорвав орудия, пограничники, воспользовавшись темнотой, стали отходить к Карани, где находился штаб полка, чтобы через этот пункт, еще не занятый фашистами, пробиться к Херсонесскому мысу.
Это удалось немногим. В Золотой балке пограничники наскочили на засаду. Завязался неравный бой… Сохраняя последние силы, горсточка бойцов отступила к мысу Феолент. И здесь, на обрывистых скалах, у древнего Георгиевского монастыря, пограничники приняли последний бой…
Вспоминает бывший рядовой 2-го батальона К. И. Гречнев.
Был сильный туман, когда мы оставили деревню Карань. Я сопровождал подводу со штабным имуществом. Держали путь к Георгиевскому монастырю. Прибыли благополучно. А рано утром собрали нас у стен монастыря, и комбат Иван Осипович Кекало спросил:
— Кто из вас пулеметчик?
Все молчали, потому что наша пулеметная рота вся погибла, а среди нас не было таких, кто бы хорошо знал пулемет. Тогда Кекало положил руку мне на плечо и сказал:
— Ты будешь пулеметчиком. — И, указав на стоящего рядом бойца, добавил: — А ты будешь его вторым номером.
Кекало тут же за несколько минут научил нас, как обращаться с пулеметом, приказал соорудить два маскировочных гнезда, чтобы в случае надобности менять позиции… Мы заняли оборону в нескольких метрах от Георгиевского монастыря…
Как взошло солнце, на наши позиции двинулись фашисты. Я нажал гашетку и дал длинную очередь. Было видно, как пули вгрызаются в землю, не долетая до противника.
Мой напарник — его звали Миша — посоветовал не нервничать, не торопиться, стрелять короткими очередями: надо было экономить патроны.
Не знаю, сколько времени мы отстреливались, но нас засекли и стали забрасывать минами. Прав был Кекало, когда приказал нам сделать запасные пулеметные гнезда… Мы отступили к Феоленту и снова заняли оборону.
Тут выступила вражеская артиллерия — били термитными снарядами. От них загорелся Георгиевский монастырь. Рядом с монастырем находился наш запас боепитания; один из снарядов угодил в тайник, и мы остались совсем без боеприпасов… И все же мы продержались до темноты…
С восходом солнца снова начался сильнейший артобстрел. Возле нашего пулеметного гнезда разорвался снаряд, меня подкинуло и присыпало землей. Однако я соображал — память не отбило. Нашел руку Михаила и сильно сжал ее, надеясь, что он поможет мне выбраться. Но он вырвал свою руку из моей…
Когда я сам откопался и немного пришел в себя, увидел: Миша лежит в метре от меня, и голова у него наполовину срезана. Так я потерял своего напарника, своего боевого друга, с которым познакомился лишь накануне…
А противник продолжал наступать, и я снова лег за пулемет. Но сделать мне пришлось лишь одну короткую очередь… Взрыв! И очнулся я у моря в пещере. Меня контузило и раздробило кисть левой руки. Рядом на корточках сидела военврач Зинаида Васильевна Аридова, а у выхода из пещеры стоял командир полка Рубцов. Правой рукой он держался за плечо, а из-под расстегнутой гимнастерки виднелась окровавленная рубаха.
Аридова спросила меня, как я себя чувствую. Я ответил и неожиданно для себя — совсем как идиот! — попросил у нее фото. Зинаида Васильевна улыбнулась, вытащила из планшетки какое-то удостоверение, оторвала от него фото с уголочком и положила его в карман моей гимнастерки.
Фотографию Аридовой я пронес сквозь плен и иные превратности судьбы. И сейчас это уникальное фото находится у меня. Я снял с него копию, увеличил и передал в комнату боевой славы на заставу имени Герасима Архиповича Рубцова…
Вспоминает бывший командир автотранспортной роты И. И. Федосов. Когда наш боезапас взлетел в воздух, Рубцов приказал мне любой ценой достать патроны и обеспечить ими автоматчиков.
Пешком добрался до тридцать пятой батареи, где, я знал, был сосредоточен обоз. Там обнаружил ЗИС-5, груженный ящиками с патронами. Шофер, по-видимому, был убит — рядом лежало множество трупов. Сел в кабину, включил передачу и на предельной скорости понесся по степи. Ехал прямо на фашистов. Поначалу они стали стрелять по мне, но потом прекратили огонь. Видимо, смекнули, что в их сторону едут только сдаваться в плен. Не доезжая метров ста до позиций противника, сделал резкий поворот вправо, за насыпь, и в мгновение был на месте. Все же гитлеровцы успели дать по мне залп. Не попали, но взрывной волной машину перевернуло, и ящики с патронами раскидало по берегу. Мы собрали ящики и благодаря этому боезапасу смогли продержаться еще несколько часов…
Вспоминает бывший начальник финчасти полка старший лейтенант В. А. Визгунов. Нас блокировали у Георгиевского монастыря, и подполковник Рубцов приказал мне во что бы то ни стало связаться со штабом 109-й дивизии, который находился в районе мыса Херсонес. Шел я, а вернее, полз по берегу моря и обнаружил в одной из пещер, что нависают над морем, человек сорок наших бойцов. Они были в ловушке — гитлеровцы охраняли выход наверх.
Что делать? Впереди — отвесные скалы, и там враг. Сзади — море. Если — морем, то из нас вышли бы плавучие мишени. Выход один: через отверстие в скале и… прямо на фашистов. Ставка на внезапность.
Собрали несколько гранат, уточнили наличие вооружения: оказалось шесть автоматов и двадцать винтовок. Не густо. Но помощи ждать неоткуда… Беру пару гранат и осторожно поднимаюсь наверх. Там, у выхода из пещеры, — двое вражеских часовых. Подбрасываю под ноги им гранату, но она скатывается и летит обратно. Хорошо, что в глубокую расщелину, и осколки ее нас не задевают. Мгновенно бросаю вторую — удачно! Часовых как не бывало. Рывок вперед, огонь из автоматов, и мы с криком «ура» прорываемся к своим…
Но свои-то тоже в окружении…
Вспоминает бывший командир взвода связи минометного батальона В. Г. Волостнов. Недавно в Севастополе мы встретились с бывшим командиром штабного взвода связи Паршиным и освежили в памяти подробности боев на мысе Феолент. Оба мы вспомнили, что знамя нашего полка Рубцов и комиссар Смирнов уложили в присутствии нас и других пограничников в цинковый патронный ящик и зарыли в лисьей норе. Место было выбрано на самом берегу моря, у мыса Феолент, неподалеку от выступа.
Нам с Паршиным знамя разыскать не удалось…
Севастопольские краеведы! Вам задание: найти знамя полка!
Вспоминает бывший командир 6-й роты 2-го батальона С. В. Козленков. Рассвет 2 июля 1942 года начался с бомбежки и артобстрела. Мы почти не отвечали. Меня ранило в спину и ногу. Зинаида Васильевна Аридова сделала перевязку и приказала:
— Пробирайся берегом к тридцать пятой батарее — там собирают раненых для эвакуации в тыл…
Два дня я пролежал в компрессорной 35-й батареи. Каждую ночь меня выводили на эвакуацию, но до кораблей нужно было добираться вплавь, а плыть у меня не было сил…
4 июля появились фашистские автоматчики, и нас взяли в плен. Какой удар судьбы: сражаться до последнего и попасть в плен!..
Товарищи утешали меня:
— Держись, Cepera! Ты молод, подлечишься и убежишь от гитлерюг.
Не очень скоро, но сбылось-таки пожелание.
Рассказ С. В. Козленкова продолжает Юзеф Маслянка, командир партизанского отряда Армии Людовой. Точнее сказать — не сам командир, а выданная им справка. Привожу выдержку из нее: «Дана настоящая Козленкову Сергею Владимировичу, 1920 года рождения, в том, что он …в октябре 1943 года связался с партизанами Польской рабочей партии и, находясь в лагере города Лабани (Силезия), руководил организацией саботажа по заданию партии.
В апреле 1944 года, когда стал вопрос о расконспирации, Козленков С. В. был из лагеря по заданию партии освобожден и направлен в партизанский отряд, которым руководил я, Маслянка Юзеф. Находясь в моем отряде, Козленков принимал активное участие в боях против фашистских оккупантов и добросовестно выполнял все мои приказы и распоряжения. Мной был назначен командиром группы».
А Зигмунд Бещанин, один из руководителей партизанского Движения на территории Келецкого воеводства Польши (ныне офицер Войска Польского), пишет: «…Сергею Козленкову, москвичу, дали в отряде партизанскую кличку Длуги (Длинный)…
Старший лейтенант Сергей Козленков со своей группой партизан получил задание организовать засаду в районе Курозвенки — Мочидло. Он разоружил, причем почти без единого выстрела, не один десяток фашистов и ликвидировал массу вражеских автомашин с артиллерийскими боеприпасами и снаряжением. Засада была устроена наподобие мешка, в который впускали ничего не подозревавших врагов, а затем обезоруживали их.
Сергей был рассудительный и хорошо подготовленный офицер, который оказал нам неоценимые услуги в борьбе с общим врагом. Он принимал участие в ряде сражений с гитлеровцами, в частности в Садкувке, Скробачеве, Житинах, Скалбмеже, а затем, после возвращения в ряды Советской Армии, долгое время служил в разведке на территории Келецкого воеводства. В конце войны он сражался и на территории Чехословакии…»
Вот какой путь прошел рубцовец. И не он один… Но все это было потом. А сейчас…
Вспоминает бывший пулеметчик Н. С. Соколов. О боях на мысе Феолент мне тяжело вспоминать: самолеты фашистские летали на бреющем полете, как грачи, и вся артиллерия вела по нам огонь. Было, как в аду. Мы получили приказ прикрывать правый фланг. Но нам не пришлось долго отстреливаться: три танка подошли вплотную к нашему доту и прямой наводкой открыли огонь. Дот треснул, а нас оглушило… Вскоре, правда, пришли в себя и решили до вечера пересидеть здесь, а потом, когда стемнеет, пробираться в лес, к партизанам. Но отсидеться не дали. В амбразуру дота просунулся автомат и последовала команда: «Вылезайте, а то взорвем!»
Нас привели к трем пещерам. И увидели мы, что кровь лилась настоящим ручьем из-под большой груды расстрелянных наших пограничников. Нас заставили убирать трупы. Дали на четверых плащ-палатку, вместо носилок. Я носил с Джармагомбетовым, Азисом Напилевым и сержантом из комендантского взвода Акбергеновым. Первым мы несли нашего дорогого командира товарища Ружникова. У него все лицо было в синяках. Мы положили его в воронку из-под бомбы и вернулись за следующим. Положили на плащ-палатку доктора Малорадова. А в это время Акбергенов перевернул одного офицера и как вскрикнет: «Командир полка! Рубцов!»
Лицо нашего командира было все изуродовано, обезображено, глаза выбиты — видно, издевались над ним.
Рубцова мы положили с левой стороны воронки, а доктора Малорадова рядом с ним. Малорадов вдруг открыл глаза, узнал Джармагомбетова и тихо попросил: «Пить…»
Я сказал нашему конвоиру, что надо бы дать раненому воды, но фашист схватил винтовку и со всего размаху ударил меня по спине. Погнал обратно к пещерам.
Ребята спустились в пещеру вытаскивать остальных наших солдат и офицеров, а я стоял, согнувшись, и держался за спину. Вдруг из одной пещеры выбегает их доктор, увидел меня и закричал:
— Шнель! Вассер! Генераль капут… Много вассер!..
Сунул мне в руки баклагу и показал, куда надо бежать за водой. Я стал ему объяснять, что меня не пустят и сразу же пристрелят. Доктор понимающе закивал головой, вытащил блокнот, что-то в нем написал, оторвал листок и протянул мне:
— Шнель! Шнель! Пропуск!
С этой бумажкой я благополучно добрался до Балаклавской косы и здесь увидел четырех матросов, которые тоже сбежали от фашистов. Не знаю, куда бы мы двинулись дальше, но тут один из матросов заметил перископ подводной лодки. Матрос стал давать сигналы бескозыркой, его заметили. Лодка тотчас же всплыла, и вскоре мы были на ее борту…
Мой боевой путь начался в городе Севастополе, а окончился в Берлине, у стен рейхстага…
Такова краткая история пятнадцатилетних поисков. Много имен еще не открыто, о некоторых событиях, разыгравшихся у старых генуэзских башен и вдали от них, можно пока лишь догадываться, но поиск не окончен, он будет продолжаться. Отныне — автор надеется — поиск коллективный.
 До сих пор я путешествовал в одиночку. Или, в крайнем случае, с одним-двумя попутчиками. Но друзья мне сказали: групповой поход — это не менее увлекательно. И решил я пройти по тогдашнему двадцать четвертому всесоюзному маршруту.
До сих пор я путешествовал в одиночку. Или, в крайнем случае, с одним-двумя попутчиками. Но друзья мне сказали: групповой поход — это не менее увлекательно. И решил я пройти по тогдашнему двадцать четвертому всесоюзному маршруту.
Возникает вопрос: почему по тогдашнему? Разве двадцать четвертый маршрут отменен?
К счастью, нет. Но он несколько видоизменился: некоторые переходы закрыты для туристов. Из-за самих же туристов. Из-за нерадивых и недисциплинированных. Но расплачиваться приходится всем. И если я пишу об этих переходах в настоящем времени, то только для того, чтобы все знали, чего лишились. Пусть временно, но лишились.
Я уложил в рюкзак необходимые краеведческие книги, пригласил с собою в поход своего друга Геннадия Ярославцева, и мы двинулись в многокилометровый путь.
Мы смотрели, мы прислушивались, мы вчитывались в краеведческие книжки. И результат перед вами.
Здравствуй, Cимферополь!
Именно из Симферополя, из «больших ворот Крыма», куда приводят туриста железнодорожные и воздушные пути, начинаются путешествия по многочисленным крымским маршрутам. Со всех концов Союза собираются туристы под гостеприимное крыло турбазы «Таврия» и отсюда делают первый шаг к первому знакомству со столицей Крыма…
Ходят-бродят туристы по зеленой Киевской улице, по улицам Пушкинской, Горького, Гагарина, отдыхают под тенью дубов и каштанов, акаций и тополей и, глядя на растущий вверх город, на гладь асфальта, с трудом воспринимают слова экскурсовода:
— Судья и литератор Павел Иванович Сумароков, живший в начале XIX века в Симферополе, жаловался, что здесь осенью и зимой «улицы от великой грязи делаются непроходимыми… По грязи ездят верхом или ходят на ходулях…» Представляете, товарищи, что здесь было?
— Очень смутно, — подает голос мой друг Гена Ярославцев. — Расскажите.
Рассказ экскурсовода передаю в сильном сокращении.
…Не день и не два строился Симферополь. Историки утверждают, что в античные времена находилась здесь столица так называемого позднескифского царства — Неаполь.
Не пустовали эти места и в средние века. И все же Симферополь по праву называют детищем Октября. Судите сами: в конце прошлого века в Симферополе было 122 трактира, 10 ресторанов, 43 церкви доброго десятка вероисповеданий и около 40 небольших производственных предприятий. И на всех этих предприятиях работало 580 рабочих…
— Значит, — подытоживает Ярославцев разговор, — ни телезавода, ни машиностроительного, ни…
— Не было, — улыбается экскурсовод…
…Еще в годы первых пятилеток были реконструированы старые промышленные предприятия и вступили в строй новые: консервный завод имени 1-го Мая, завод искусственной ферментации табака, эфирномасличный комбинат…
Симферополь — город индустриальный. Замечу: продовольственное оборудование, которое производит завод имени В. В. Куйбышева, экспортируется во многие страны. А в 1970 году на международной выставке-ярмарке в Будапеште закаточная машина этого предприятия получила золотую медаль…
И тут подал голос один из туристов — профессор Гришаев (запомните эту фамилию). Он посмотрел внимательно на экскурсовода, откашлялся и корректно сказал:
— Заметьте, коллега, это не первая медаль, которой удостоились симферопольцы. Были медали, были. Правда, не за машины, а за продукцию. Еще в тридцатых годах «Крымконсервтрест», а он объединял симферопольские консервные фабрики «Возрождение», «Трудовой Октябрь», а также керченскую «Волю труда» и балаклавского «Пролетария», получает медали. Первую — на Всероссийской сельскохозяйственной выставке в 1923 году, затем — на международной выставке в Копенгагене в 1925-м и Гран-при в Париже в 1927 году.
— Будьте любезны, — просит Ярославцев, — если вы все знаете не скажете ли, за что получены эти медали?
— Скажу, коллега. За чудесно приготовленные компоты, глазированные фрукты и рахат-лукум.
— Спасибо, профессор, вопросов больше нет. Гришаев поклонился экскурсоводу:
— Так на чем вы остановились, коллега?
— Мы не остановились. Мы идем дальше — к Неаполю скифскому…
Лазают туристы по Петровским скалам, по Неаполю скифскому и, как дети малые, радуются каждому найденному черепку, каждому отшлифованному камешку. И кажется им, будто любая попавшая им в руки ракушка, — единственная в своем роде, и что вот-вот произойдет открытие.
Говорят, что открытие — дело случая… Ведь случайно первые строители Симферополя, разбирая в этих местах древние развалины, нашли рельеф с изображением скифа-всадника и три мраморные плиты с надписями. Случайно! Но уже совсем не случайно заинтересовались находкой археологи, и не случайно раскопки Неаполя скифского ведутся по сей день…
— Устали? — спрашивает экскурсовод.
— Устали, — честно признается семидесятидвухлетний профессор Гришаев.
— Завтра до самого Бахчисарая будете ехать в автобусе.
— Как? — неожиданно возмутился профессор. — А я хочу пешком, и в путевке, между прочим, написано: маршрут пешеходный. Я, если хотите знать, путевку приобрел ради пешего хода. Понимаете, сбежал от благ научно-технического прогресса. Этот самый прогресс совершенно освободил меня от физической нагрузки, и мой организм, как признали врачи, начинает страдать от недостатка физической работы, солнечного и кислородного недополучения.
— А как у вас с нервно-эмоциональным перенапряжением? — ехидно поинтересовался Ярославцев.
Мог не ехидничать! Потому что не каждому дано совмещать работу таким образом, как это делает он, Ярославцев. Работает на севастопольской фабрике «Швейпром» наладчиком швейных машин. Работа хоть и не шибко тяжелая, но все же в достаточной степени физическая. А по вечерам он сидит за чертежами и изобретает. Это умственная нагрузка. Он человек новой формации. Его можно назвать рабочим интеллигентом, или наоборот, — интеллигентным рабочим.
— С нервно-эмоциональными перегрузками? — улыбнулся профессор. — А это сейчас лечится самым модным лекарством.
— Таблетками? — полюбопытствовал Ярославцев.
— Ошибаетесь, молодой человек! — Ярославцева даже с натяжкой нельзя назвать молодым, но профессору с высоты его возраста виднее. — Сейчас, молодой человек, лечат физическим способом — бегом! В ГДР, Чехословакии и Болгарии это движение носит название «Бегай на здоровье!», в Новой Зеландии — «Бег ради жизни» и «Бег от инфаркта», в Швеции и Финляндии…
— Бег, выходит, импортный? Профессор рассмеялся:
— Импортный? За бег как лечебный метод нужно благодарить внучку Владимира Мономаха. Бег — чисто российское средство. Вот так!
Я вытащил блокнот, дабы записать слова Гришаева, но он остановил меня:
— Не торопитесь конспектировать, коллега, вы не на лекции. Дарю вам информацию, так сказать, в печатном виде. — И вынул такую газетную заметку:
«Поклонникам лечебного бега, охватившего, пожалуй, миллионы людей, следовало бы поблагодарить за новизну чудесного моциона внучку Владимира Мономаха, великого князя киевского. Евпраксия Мстиславовна, известная также под именами Зоя и Добродея, еще в двенадцатом столетии убеждала людей в большой пользе движения, чистого воздуха и рационального питания.
Талантливая княжна изложила свои взгляды в уникальном трактате «Мази». Это был по тому времени энциклопедический советчик врача, аккумулировавший последние достижения науки и народной медицины…»
— Вот так-то, дорогой Геннадий Захарович, а вы говорите «импортный бег», — передразнил Ярославцева Гришаев и вновь обратился к экскурсоводу, — а нельзя ли до Бахчисарая махнуть пешком?
— Нельзя, — рассмеялась экскурсовод, — вам и так придется немало потопать! Не торопитесь…
Вас приветствует…
Симферополь — начало пути, обещание удивительных крымских красот и чудес. Да, и чудес! А начинаются они в Бахчисарае… Автобус привозит туристов на турбазу «Привал» ровно в одиннадцать часов. И ровно в 11.00 по московскому времени Сказочный Принц приветствует туристскую группу. Роль Принца исполняется тоже туристом, прибывшим на день раньше. Нам посчастливилось увидеть Принца в талантливом исполнении токаря одного из московских заводов Бориса Федоровича Белянцева.
Внешность у Белянцева, скажем прямо, не принцевская, скорее всего он похож на короля из карточной колоды. Но это был удивительный Принц! Ни в одной нормальной сказке не сыскать подобного.
Сказочного Принца грациозно вынесли на носилках слуги в чалмах, голобрюхие-голоспинные, расписанные красками всех цветов радуги, и кресло-носилки установили на помосте. В принцевском рту дымилась сигарета «Варна». На нем был узкий цветастый мини-халат, из-под которого высовывались разукрашенные коленки. Был он молчалив и невозмутим, как секретарь при крупном начальнике.
Если Принц царственно молчалив, то его заместитель-глашатай, согласно занимаемой должности, не имеет на это права. И своим правом пользуется вовсю. В руках глашатая — огромный свиток, он разворачивает его и по молчаливому приказанию Принца читает. Привожу текст полностью, потому что в нем, хоть и в шутливой форме, изложены правила поведения туриста.
Глашатай торжественно произнес:
«Вас приветствует Сказочный Принц в полный свой рост и величину. Прошу любить и жаловать!
Кибернетика, чур меня, чур, и прочие волшебства вытеснили Принца из современных сказок, и Сказочный Принц соизволил перестать путешествовать, и выстроил свой дворец в этом чудесном месте, именуемом турбазой «Привал». Все вступающие в его владения подчиняются общему закону и правилам:
а. Быть вежливым, ибо вежливость — привилегия не только принцев, принцесс и королей с королевами.
б. Быть хорошим товарищем в походе, дабы тебя не потеряли в лесу и не отобрали путевку.
в. Зелье в походе и на базе не употреблять — можешь пропасть.
г. Укреплять свой организм на утренней зарядке.
д. При своем продвижении к Черному морю не маркировать маршрут банками, бутылками и надписями на памятниках.
Сказочный Принц предупреждает: за нарушение установленных правил путевка будет отбираться и, чур меня, чур, туристы, заклейменные позором, будут изгнаны из его владений, а поведение их рассмотрено на совсем не сказочном месткоме».
Это, так сказать, официальная часть приветствия. Тут же начинается и неофициальная — импровизированный концерт. И тон ему задают все тот же Принц и его верное окружение.
Сказочный Принц приподнимает голову, что-то цедит сквозь зубы, а глашатай вещает:
— Принимая под свое покровительство вновь испеченных туристов, Принц повелевает отобрать достойнейших для исполнения сказочных плясок… Достойнейшими считать тех индивидуумов, кои не имеют задолженности в графе «профсоюзные взносы»…
— Ха-ха-ха! — подтверждает Принц. — Слуги! Выловить достойных! Прижечь им пятки каленым железом! Живо!
И звучат над турбазой «Привал» веселые песни, и чуть не лопается асфальт от молодецких плясок. Улыбается Принц, вытирает невидимые миру слезы. Машет синеньким платочком:
— Хорошо-то как… С душой танцуют… Мы, Принц, довольны… Из «своих» погребов Сказочный Принц велит угостить вновь прибывших эликсиром молодости и любви, именуемым в простонародье квасом. И подносится каждому стакан холодного кваса…
Мне могут заметить: «Зачем открыл секрет встречи: ведь это своего рода сюрприз!»
Совершенно верно — сюрприз. Но на турбазе работают опытные массовики (какое казенное слово!) — они мастера на выдумки. В следующий раз вас может встретить не товарищ Сказочный Принц, а… Вот тут я и умолкаю: пусть это будет сюрпризом… На следующее утро — первый тренировочный поход… Туристы идут бодро, и узенькие улочки старого Бахчисарая, выложенные брусчаткой, преодолеваются шутя.
Кто-то сказал о старом Бахчисарае: «Он втиснут в ущелье, как противень в духовку». И это верно. Город расположился в скалистом, пронизанном солнцем ущелье. Но в ущелье, приспособленном для жизни: склоны все в зелени дерев и кустарников, а недра богаты родниковой водой.
Раскопки говорят о стародавнем пребывании здесь людей — еще до основания города. На территории нынешнего Бахчисарая и его округи жили в разное время тавры, скифы, сарматы, аланы, готы, гунны, хазары, печенеги, половцы…
Переходим речку Чурук-Су и начинаем знакомство с историко-археологическим музеем, расположенным в бывшем ханском дворцем — Хан-Сарае. Его описанию посвятили свои работы историки, археологи, искусствоведы, прозаики и поэты. И если все эти книги и книжечки, статьи и исследования сложить столбиком, то их высота превысит высоту бахчисарайских минаретов. Не будем увеличивать высоту столба. Заметим только: красота дворца постигается не сразу. Даже великий Пушкин, посетив Хан-Сарай, писал: «Вошед во дворец, увидел я испорченный фонтан; из заржавой железной трубки по каплям падала вода. Я обошел дворец с большой досадою на небрежение, в котором он истлевает, и на полуевропейские переделки некоторых комнат…» Но тот же Александр Сергеевич скажет совсем другое: «Растолкуй мне теперь: почему полуденный берег и Бахчисарай имеют для меня прелесть неизъяснимую? Отчего так сильно во мне желание вновь посетить места, оставленные мною с таким равнодушием?..»
Так что уникальная красота этого «уголка Азии, затерявшегося в Европе», все равно рано или поздно полонит ваше сердце.
Выходим из музея… Слова даже точного не найду… Ну, скажем, обогащенные. И «виновны» в этом не только строители дворца, но в немалой мере Пушкин и Грибоедов, Мицкевич и Леся Украинка. Все те поэты, писатели и художники, которые своими стихами, рассказами, картинами и книгами научили нас видеть и чувствовать красоту. И, не дожидаясь официального юбилея именитых наших предков, помянем их добрым словом в самый обыкновенный будничный день…
Сходим с асфальтированной дороги и держим путь к Успенскому монастырю — одной из главных достопримечательностей, расположенных в ближайших окрестностях Бахчисарая. Впереди нас — старая каменистая дорога, уходящая в горы.
Успенский монастырь. Один из немногих уцелевших до нашего времени. А если быть точным, скажем: от монастыря сохранились дом игумена, остатки часовни и кельи в скалах. Возникновение монастыря относят к VIII-X векам. Просуществовал же он с небольшим перерывом около тысячи лет. В 1299 году, когда монголы-татары совершили опустошительный набег на юго-западный Крым и многие пещерные города и монастыри были разрушены, Успенский монастырь выжил. В 1778 году, в связи с выселением из Крыма христиан, монастырь обезлюдел. А окончательно он прекратил существование в 1921 году и с тех пор стал объектом туристского осмотра.
История… Пыль веков… Слушают туристы слова экскурсовода и вспоминают, что когда-то (для одних недавно, а для других давным-давно) все это проходили в школе и… забыли. И вдруг все вспомнилось и предстало, выражаясь словами Маяковского, «весомо, грубо, зримо». Из-за этого одного стоило брать путевку!..
Неподалеку от Успенского монастыря — Чуфут-Кале. Предполагают, что город построен в X-XII веках. Арабский географ Абу-ль-Фида (Абульфеда) свидетельствует, что в XIII веке в крепости жили аланы — предки современных осетин. Аланы приняли христианство и занимались в этих местах торговлей, скотоводством, земледелием, о чем можно судить по результатам раскопок, проводившихся в 40-50-е годы нынешнего столетия.
После включения Крыма в состав России жители Чуфут-Кале — караимы — стали переселяться в другие места полуострова, более приспособленные для жизни, и город опустел…
Усталые, но все-таки одолевшие «неприступный» подъем, входим в город через южные ворота. Картину, которая открывается нашему взору, Алексей Константинович Толстой в свое время выразил в стихах:
…И город вымер. Здесь и там
Остатки башен по стенам,
Кривые улицы, кладбища,
Пещеры, рытые в скалах,
Давно безлюдные жилища,
Обломки, камни, пыль и прах…
И все-таки, несмотря на «пыль и прах», есть памятники, прекрасно сохранившиеся: караимские кенасы, мавзолей Джаныке-ханым, искусственные пещеры, дубовые ворота, обитые железными полосами ручной ковки, мраморные плиты с неразгаданными пока знаками… Еще много неясностей в истории Чуфут-Кале, но каждый год ведутся археологические раскопки, и ученые прочитывают все новые и новые страницы в книге, зашифрованной веками…
Пройден пока первый десяток километров. И снова — турбаза «Привал». После знакомства с Бахчисараем и его окрестностями первым нас встречает врач. Только он может дать необходимое разрешение на дальнейший пешеходный переход.
Врач ткнул стетоскопом первого, выслушал и добродушно похлопал по голой раскаленной спине:
— Можешь быть космонавтом!
Проверил второго — тоже годен. И третий — здоров. И четвертый… Внимательный врачебный взгляд остановился на профессоре Гришаеве:
— Что вы на меня подозрительно смотрите, коллега? — крутнул головой профессор.
— Вы тоже медик? — спросил врач.
— Я на пенсии, — уклончиво ответил Гришаев, — а на пенсии все становятся медиками.
— На пенсии… Так-так-так… А не хотите ли малость отдохнуть?
Гришаев вспыхнул:
— Друг мой! — это он врачу. — Профессор Аршавский, а я его уважаю за исключительную трезвость мышления, считает: мы ослабляем свое сердце недостаточной физической нагрузкой… Да, да! И не спорьте со мной!
— А я и не спорю.
— Все равно не спорьте! Аршавский правильно говорит, что все мы деятельные бездельники. Мы сокращаем свою жизнь отдыхом, сами подписываем себе смертный приговор лежанием на боку. Мы, видите ли, устали! Мы, видите ли, отдыхаем!.. А сейчас, дорогой коллега, попробуйте признать меня больным. Посмотрим, как вам это удастся!
Профессор Гришаев добыл разрешение для дальнейшего перехода… Да, а кто не обладает пробивной гришаевской силой? Или кому действительно противопоказаны длительные горные переходы? Значит, не видать им той красоты, что доступна всем физически здоровым людям? Не отчаивайтесь, все учтено и продумано: просто от турбазы до турбазы вас будут доставлять в автобусе. И к достопримечательным местам доставит автобус — смотрите, впитывайте в себя красоту и набирайтесь сил…
Один из дней пребывания на турбазе «Привал» будет «севастопольским». Рад сообщить всем путешествующим и собирающимся в путь-дорожку крымскую: какую бы вы путевку ни приобрели, какой бы номер маршрута на ней ни стоял, Севастополя вы не минуете…
Севастополь! Нельзя не любить легендарную землю Ушакова и Лазарева, Корнилова и Нахимова, Шмидта и Матюшенко, Фильченкова и Голубца… А начинался Севастополь с маленькой деревушки Ахтиар (Ак-Яр), приютившейся у бухты того же названия. Великий русский полководец А. В. Суворов первым оценил значение бухты, где будет построен город-крепость, и высказал твердое убеждение, что городу этому предстоит сыграть немаловажную роль в защите Отечества. Еще летом 1778 года, когда Суворов командовал русскими войсками в Крыму, по его приказу у Ахтиарской бухты были построены временные укрепления, а через пять лет в бухту вошла эскадра Азовской флотилии…
Итак, мы держим путь в город-герой Севастополь.
Автобус въезжает в Бельбекскую долину. У села Верхнесадового нас «встречает» матрос с автоматом в руке и гранатой. Это память о днях Великой Отечественной войны.
Если бы мы вышли сейчас из автобуса и поднялись на один из правых отрогов Бельбекской высоты, то увидели бы памятник и надпись на черной мраморной плите: «7 ноября 1941 года, защищая Севастополь, пять героев-черноморцев совершили бессмертный подвиг…» Вот их имена — они сейчас в названиях севастопольских улиц: Николай Фильченков, Даниил Одинцов, Юрий Паршин, Иван Красносельский, Василий Цибулько. То, что сделано ими, под силу разве что батальону: они уничтожили десять фашистских танков. Всем пятерым присвоено посмертно звание Героя Советского Союза.
29 октября 1972 года в селе Верхнесадовом, в Доме культуры винсовхоза «Садовод», открылся музей боевой и трудовой славы, И первые посетители остановились у диорамы, воссоздающей события 7 ноября 1941 года. Полотно диорамы написано в Москве, в студии имени М. Б. Грекова. Автор — художник Владимир Васильевич Кузнецов. Диорама включает три сюжета, но основной — подвиг пяти героев-черноморцев…
Еще двадцать-двадцать пять минут пути, и перед нами Севастополь — город русской славы.
Я умышленно опускаю экскурсии по Севастополю. О славном городе написано достаточно много, и мне бы не хотелось скороговоркой портить впечатление. Поэтому давайте займем свои места в автобусе и вновь перенесемся в Бахчисарай…
Несколько дней на турбазе «Привал» пролетают быстро. И вот уже прощальный концерт уходящих завтра в поход. И танцы, танцы, танцы до упаду. Словно не карабкаться завтра по горным тропам, не тащить на себе тяжеленный рюкзак, нашпигованный консервами, макаронами, гречкой и картошкой… Продуктами, столь необходимыми на привале и столь ненавистными в пути…
В 23.00 раздается голос, усиленный репродуктором: «Спокойной ночи, товарищи!» И над турбазой разливается тишина.
От Бахчисарая до Соколиного
От турбазы «Привал» до приюта «Научный» всего пятнадцать километров. Что значит в наш век это расстояние! Если его преодолеть на самоновейшем «ТУ», то и глазом моргнуть не успеешь. А пешком?.. Тут мы ближе к тому веку, когда пещерные жители, обливаясь потом, пытались одолеть мамонта врукопашную, а потом по извилистым тропам затащить его в свою хату-пещеру. Но им было все же легче. Во-первых, хоть они и доживали в среднем всего до двадцати лет, но в кости были шире. А во-вторых, они ни разу не пользовались услугами автотранспорта. Мы же давно отравлены цивилизацией и даже расстояние в пятьсот метров — от дома до работы — стараемся одолеть в троллейбусе…
Всеобщее построение. Выход.
— Ну, пошли! — командует наш инструктор Сергей Вересов. — Путь наш далек и долог, и нельзя повернуть нам назад…
Инструкторский рюкзак больше нашего раз в восемь, плюс — ответственность, а он шутит.
— Счастливо оставаться! — машем руками провожающим.
И провожающие, словно сговорившись (так оно и на самом деле), скандируют:
— Катитесь вы к чер… к Черному морю!
И мы «покатились». Вначале — в переносном смысле, потом — в буквальном. Первый пяток километров — почти без подъемов, но зато под палящим солнцем. Идем, не разговаривая, экономя силы для великих дел и свершений. И только слышен голос неугомонного инструктора, пытающегося из нас, вчерашних учителей и работников «усушки и утруски», токарей и счетоводов, электриков и прочих нужных человечеству специалистов, сделать «людей», то бишь туристов.
— Идите легким пружинистым шагом… Учитесь перекатывать ногу с пятки на носок… Дышите ритмично. На подъеме делайте короче шаг…
Стараемся действовать согласно инструкторским наставлениям. Действительно, становится легче и кажется, что полированные горы в долине Чурук-Су, бахчисарайские природные сфинксы, обточенные и обсосанные, словно леденцы, матушкой-природой, вовсе не хмурые, а улыбчивые и, похоже, желают нам счастливого пути. Вересов сказал:
— Обратите внимание на эти памятники природы. Вот что делают солнце, дождь и ветер с нуммулитовыми известняками неодинаковой прочности… Видите этот горный разрез? Речка Чурук-Су, что значит в переводе «гнилая вода», в этих местах пропилила каньонообразное ущелье и рассекла на две части Внутреннюю крымскую гряду в поперечном направлении… Не останавливаться! Учитесь видеть, не останавливаясь…
Каменистая дорога с чахлыми деревцами кончается, и начинается спуск. Многокилометровый спуск в живописную долину по не менее живописной тропе. Оказывается, спуск так же труден, как и подъем, даже труднее.
Вот кто-то поскользнулся и пытается съехать вниз на «пятой» точке. Инструктор вовремя приходит с советом:
— Вниманию всех! Прибавить шаг… Вприпрыжку! Полубегом, пружиня ноги в коленях…
Профессор Гришаев смотрит на нас этаким бывалым туристом. Теоретически он намного лучше нас подготовлен к походу, и это сейчас сказывается. Идет он свободно, словно его не давит груз прожитых лет. А мы? Может, к концу пути из нас тоже выйдет толк?..
А сейчас… Сейчас хорошо бы отбросить рюкзак, растянуться на теплой земле и, лежа в тени, следить за движением солнца, перебирающего по одному листья деревьев. Хорошо бы!..
Вьется серпантинистая тропка, пробирается группа через низкорослый дубняк и грабинник, через кусты кизила и держидерева, и когда показалось, что сил больше нет, начался подъем…
Геннадий Ярославцев только крякнул, поняв, что вместо отдыха нужно подниматься, и довольно высоко.
Гришаев смахнул со лба обильный пот:
— Эх, воды бы! Да холодненькой…
Вересов взглянул на профессора:
— Сейчас будет родничок. Пейте вволю! Профессор укоризненно покачал головой:
— Молодой человек, зачем же массы вводить в заблуждение и насмехаться над человеком в возрасте?! Я-то знаю, что при длительных переходах надо поменьше пить…
— И вы так думаете? — обратился Вересов ко всей группе. Мы думали так же, как Гришаев. Ведь чуть ли не с пеленок нам внушали, что при физических перегрузках пить нужно как можно меньше.
— Стоп! — скомандовал Сергей. — Объявляю минутный незапланированный перерыв. Слушайте внимательно. Вопрос поставлен так: пить или не пить? Современная медицина утверждает: пей! Сдерживать себя не нужно. Сколько бы человек ни пил, все равно он выпьет воды меньше, чем потеряет ее с потом. Вы поняли меня, профессор?
— Благодарю за информацию, коллега. Ведите к роднику — теория без практики, что сухая ложка.
— Вперед! — командует Вересов. И мы плетемся вперед.
Когда подъем остался позади и инструктор позволил нам поваляться на мягкой и нежной земле, мы поняли, что нет на свете таких высот, которые мы не смогли бы взять. А еще мы поняли, что тяжесть в ногах от усиленной физической работы может веселить сердце…
Получасовой отдых, и рюкзак становится легче на полбанки консервов…
— Подъем! — снова командует Сергей Вересов. — Вперед и выше!
Впереди нас — рукой подать — зеленая изумрудная спина Бешик-Тау, что значит в переводе Колыбель-гора. Но умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Мы огибаем Колыбель, спускаемся в балку, и перед нами возникает усеченный конус горы-крепости Тепе-Кермен…
Перед подъемом сбрасываем рюкзаки — все равно рюкзаки не станут умнее, если даже и побывают на этой высоте, — и к «крепости на холме» (так переводится Тепе-Кермен) идем налегке…
Тепе-Кермен — достопримечательность «в квадрате». Во-первых, это памятник старины глубокой — здесь церковь VIII-IX веков с высеченными крестами, около 250 искусственных пещер, остатки жилых зданий… Во-вторых, Тепе-Кермен — ландшафтный памятник, известный как характерный образчик столовой горы-останца. Высота Тепе-Кермена — 543 метра над уровнем моря. Некогда это была часть Внутренней гряды.
С вершины Тепе-Кермена хорошо просматривается и Кыз-Кермен — Девичья крепость. Название не случайное: Кыз-Кермен и Тепе-Кермен навечно связаны легендами. Я не буду пересказывать их, скажу только одно: на всем протяжении нашего пути горы и долины — герои всевозможных легенд и преданий…
А сейчас — спуск. Потом легкий полдник. И снова в путь!
Устали чертовски, а до Научного еще километров семь с гаком. У Сергея Вересова оказалось уже два рюкзака, и самые выносливые ребята тоже стали «двугорбыми»… Да что об этом говорить! Вступил в силу закон взаимовыручки и взаимных симпатий, одним словом — закон товарищества…
Наконец заблестело на солнце серебро куполов астрономических башен — показался поселок Научный.
Крымская астрофизическая обсерватория имеет свою судьбу. Ее биография началась в Симеизе, где любитель астрономии Н. С. Мальцов еще в начале века создал частную обсерваторию. Долгие годы Симеизская обсерватория, ставшая филиалом знаменитой Пулковской, служила науке верой и правдой. Но в войну гитлеровцы разграбили ее и ценное оборудование вывезли. В послевоенные годы Симеизская обсерватория расширилась и пополнилась уникальными приборами. Но исследователей вселенной она уже удовлетворить не могла. И вот тогда здесь, в тихом уголке горного Крыма, расположенном в 12 километрах от Бахчисарая, вырос поселок Научный. Крымская обсерватория становится самостоятельным научным учреждением Академии наук СССР, а обсерватория в Симеизе его филиалом.
Ныне купольный городок Научный — центр астрофизических изысканий, имеющий не только всесоюзное, но и мировое значение…
Осмотрев поселок астрофизиков (замечу, кстати, что экскурсии для туристов устраивают здесь лишь в определенные дни), направляемся в туристский приют «Научный». Тут нас ждут палатки, спальные мешки и… ведро компота. Под ведром — записка: «Коллектив 24 маршрута, покидая стоянку «Научный», кланяется туристам нашего же маршрута ведром компота. Дорогие наши ногоносцы! Пейте этот южный эликсир бодрости и здоровья. До встречи в Соколином!» А что? Тоже — товарищество!..
От приюта «Научного» до поляны Кермен — самый длинный переход. Двадцать шесть километров нужно будет протопать, чтобы добраться до спальных мешков и традиционного ведра компота. Переход трудный, особенно в жару. Но мы обманываем светило и встаем раньше — солнце еще не успело подкрасить верхушки деревьев, как мы быстрехонько преодолеваем спуск и забираемся в лесничество Финарос у реки Марты.
Вот и поляна Кермен… Первое, на что обращаешь внимание, это цветы — поляна вся в цветах. И каждый из нас, нарвав букет алых маков, кладет его к подножию памятника. На этом месте, где сейчас воздвигнута шестигранная колонна, в 1942 году погиб в неравном бою с фашистами моряк-черноморец, комиссар партизанского отряда Николай Петрович Кривошта…
Потом мы увидели остатки партизанских землянок и боевых точек и вспомнили еще раз добрым словом тех, кто дал нам возможность жить и путешествовать сегодня. Низкий поклон вам, деды и отцы наши!..
Рано-ранехонько вышли в дальнейший путь — последние двадцать километров. Этот отрезок пути пролегает по удивительно красивым местам.
Великолепный вид открывается на гору Богатырь. Ее мы увидели издалека. Заросшая лесом, величаво спокойная, если так можно сказать о горе, она действительно напоминала богатыря, только — спящего. Солнце полосатило спину гиганта, легкий ветерок лохматил «бороду», и снизу вся гора (будто в театре) подсвечивалась каким-то немыслимым фиолетовым светом.
Но добрались мы до ее подножия лишь через несколько часов. Первым встретил нас смотритель и сторож приюта «Богатырь» Петр Аверьянович Кокорин. Это удивительный дед, своего рода достопримечательность здешних мест. Десятки тысяч туристов «прошли через его руки» и еще пройдут. Поэтому о нем нужно рассказать подробней. Это, так сказать, образцово-показательный дед, хотя он вроде бы и не стремится к славе.
У Аверьяныча крупное лицо с таким же крупным сизым носом. Из-под кустов-бровей выглядывают узкие, с хитринкой глаза. Огромная взлохмаченная борода, в любое время года женская соломенная шляпа с крупными полями, бархатная куртка, вышедшая из моды еще в годы нэпа, и лыжные брюки, тоже с выслугой лет. Возле него постоянно вертится необыкновенно умная дворняга со странной кличкой Дося. Верный старинный друг.
У деда в запасе сотни шуток-прибауток, которые (то ли он их сам сочиняет, то ли получил по наследству) не мешало бы записать.
Помимо всего прочего, этот мастер на все руки, особенно на всякие хитрые сувениры, еще и заядлый шашист. У профессора Гришаева, по его утверждению, первый разряд, а дед лесной у деда ученого выиграл добрый десяток партий. Так что играет он на уровне мастера. Уже потом, оправдываясь, Гришаев говорил, что дед взял его измором — играли семь часов подряд.
Кокорин из породы тех людей, которых если однажды увидел, то запомнил на всю жизнь. В случае надобности Аверьяныч первым придет на помощь: отстали подметки на кедах или лопнула волейбольная камера — дед заклеит. Разболелась голова или порезана нога — пожалуйста, к деду: врачует с полным знанием дела. Заскучали вы что-то… И тут придет на помощь добрый волшебник Аверьяныч и из запасов своей памяти извлечет именно ту шутку, которая заставит вас улыбнуться… Вот какой дед на Богатыре. Клад, а не дед!
И когда мы покидали эту удивительную стоянку, еще долго на горизонте маячила фигура деда Аверьяныча с протянутыми в прощании руками. Его лохматую бороду неистово трепал утренний ветер, и нам казалось, что мы говорим «до свидания» человеку, с которым знакомы сто лет и с которым еще обязательно встретимся…
Дальнейший наш путь проходит по северо-западному склону горы Бойка. Удивительный массив! До сих пор среди жителей близлежащих сел бытует легенда, будто вся гора была когда-то огромным городом. Легенда в какой-то степени подтверждается научными исследованиями — следы былой жизни человека на Бойке видны повсюду.
Я познакомился с интересной статьей археолога О. И. Домбровского «Средневековые памятники Бойки» и хочу привести из нее несколько отрывков. Хочу это сделать потому, что сборник, в котором опубликована статья, издан малым тиражом и, естественно, будет прочитан ограниченным кругом людей.
О. И. Домбровский пишет:
«…Один из самых значительных памятников Бойки расположился на седле Сотиры… В расширенной западной части седла расположены руины большого храма…
В связи с частой вырубкой на уголь леса Бойки не одинаковы по возрасту… На горе Богатырь… растут могучие дубы и старые кизиловые деревья. Возраст многих деревьев определяется около 500, а в отдельных случаях и 600 лет. На этом основании можно заключить, что углеобжигательный промысел существовал на Бойке не только при татарах, но и значительно раньше…
В шести различных пунктах Бойки имеются следы средневековых поселений… Исходя из того, что самая ранняя керамика Бойки относится к концу IX — началу X в., можно сделать вывод, что земледельческие усадьбы Бойки… возникли не ранее этого времени…»
Продираемся сквозь заросли бересклета и держидерева, удачно прорываемся сквозь толстые веревки крымских лиан — ломоноса, и перед глазами возникает село Соколиное. Рядом с Соколиным — турбаза «Орлиный залет». Там нам предстоят четырехдневный отдых и увлекательные экскурсии…
«Орлиный залет»
Каждый день на турбазе расписан. И вот в один из дней карабкаемся на Мангуп. Жара! Пот струится ручьем. Когда становится особенно трудно, альпинист Герман Сычев расчехляет свою походную гитару:
— Микроперерыв! — командует он. — Обнять родную землю! — Сам он тоже садится, обхватив ногами куст, чтобы не сползти вниз…
Большинство из нас поднималось на Мангуп впервые. Я-то здесь бывал не один раз. Однажды мне довелось лететь в этих местах на самолете сельскохозяйственной авиации. Неожиданно я отыскал глазами Мангуп: эту гору не спутаешь ни с какой другой! Один из опытных туристов сказал мне однажды, что она похожа на кисть человеческой руки с растопыренными пальцами… По этим-то признакам я узнал Мангуп с высоты. Действительно, кисть человеческой руки — четыре пальца-мыса: западный — Чамлы-Бурун (в переводе «сосновый»), северо-западный — Чуфут-Чеарган-Бурун («мыс вызова иудеев»), северо-восточный — Елли-Бурун («ветреный») и восточный — Тешкли-Бурун («дырявый»)…
Когда возник город на Мангупе? Исследователи, увы, не дают единодушного ответа. Одни утверждают, что построен он в V-VI веках нашей эры и стал вскоре центром юго-западной Таврики. Другие называют более позднее время: VIII и даже X века…
Письменные источники свидетельствуют о том, что в XIII-XV веках город именовался Феодоро, а с XV века Мангупом. Вплоть до рокового 1475 года Мангуп-Феодоро был столицей независимого христианского княжества.
А весной того памятного для Крыма года близ Кафы (Феодосии) турки высадили десант. Кафа и другие укрепления генуэзцев не оказали им сколько-нибудь серьезного сопротивления. Иначе было под стенами Мангупа…
В путеводителе Е. В. Нагаевской «Бахчисарай» читаем: «Турки осадили Мангуп в июле… Пять раз они тщетно штурмовали крепость. В течение почти шести месяцев простояли они под ее стенами, и только голод заставил защитников сдаться на милость победителя. Город был разграблен, сожжен, жители уведены в плен вместе с князем Александром и его семьей. Князя Александра по повелению Мехмета II турки казнили, а Мангуп и вся территория княжества стала собственностью султана…»
Короткий привал — и мы снова карабкаемся вверх, чтобы своими глазами увидеть овеянные легендами места, чтобы по тем немногим приметам, которые все-таки пощадило время, воссоздать в своем воображении город Мангуп-Кале.
Тропа-вьюн выводит к древним городским воротам…
Проходим ворота. И вот оно, знаменитое, пронизанное ветрами, опаленное солнцем плато Мангуп! Взбираемся еще выше, на холм, и перед взором открывается распростертое на многие километры бывшее Мангупское княжество. Сквозь марево проступают силуэты крепости Кермен-Кая на Басмане и дозорные средневековые укрепления Яманташ и Кипиа…
Спускаемся с холма и осматриваем «покоренный» нами Мангуп. Герман Сычев входит в роль. То и дело слышен его восторженный голос:
— Остатки восьмигранной церкви — восьмой век! Княжеский дворец — это уже ближе к нам: четырнадцатый — пятнадцатый…
Завидное качество у этого бывалого человека: на Мангупе он в двадцатый или тридцатый раз, но удивляться не разучился.
— А сейчас пойдем в тюрьму.
Тюрьма, а вернее, то, что от нее осталось, повисла над самой пропастью. Из такой тюрьмы не убежишь. Входим и…
— Надписи-то как сохранились! — обрадовался профессор Гришаев и тут же прикусил губу. — Дикость какая!
— Посмотрим, — усмехнулся Ярославцев, — кто здесь томился в век нейлоновых причесок и транзисторов!
«Коля Сидорчук из Кишинеу. Май 1968 г.», «Жёра и его меньшой братец Лёва из матушки-Одессы. 1971 год», «Мы из Томска — знай наших! Студенты»…
Кроме надписей, есть и «портреты». Вот нарисованная охрой чья-то физиономия… Сотни различных надписей и картинок, выполненных краской, карандашом, выдолбленных на века зубилом.
Что делать с любителями наскальной живописи? Последовать совету Владимира Маяковского и всучить каждому «художнику» по тряпке и ведру со скипидаром, чтоб соскребли написанное? Но где гарантия, что не сотрут они на нет эти стены, простоявшие века?.. Какие-то меры, в том числе, конечно, административные, нужны непременно (пока не поздно!). Хотя бы самые элементарные: списав со стенок адреса входящих в историю с черного хода, направить соответствующие письма в школы, институты, на места работы. Только так!..
С Мангупа спускаемся другой дорогой, ведущей в Каралезскую долину. Легче, конечно, было спуститься по знакомой тропочке, но тогда мы не увидели бы знаменитых каралезских сфинксов и химер.
На обрывистых склонах Внутренней крымской гряды высятся каменные истуканы — искусная игра природы. Вот они, «египетские» сфинксы и химеры, вот они — каменные чудища! Природа добросовестно потрудилась в этих местах, сотворив из горных пород «драконов», «крокодилов» и ту скалу, которую по легенде зовут «Змеем Горынычем»…
Садится солнце, и сразу становится прохладно — пора на турбазу. Завтра перед нами откроется Большой каньон…
От турбазы к каньону туристов доставляет автобус: надо экономить силы, потому что путь по дну этой горной трещины не из легких. Начинается он от ресторана «Каньон». Вид отсюда великолепный: видна лента реки Кокозки, зажатая скалами Орлиного залета, обрывами Седам-Кая и массивом Бойка. Вдали, где Кокозка впадает в Бельбек, виднеются крыши села Голубинки.
Спускаемся в каньон, но прежде несколько слов о его образовании. В далекие геологические эпохи Ай-Петринский массив с горою Бойка представлял собой одно целое. Но десять миллионов лет тому назад произошел, как говорят геологи, активный горообразовательный процесс и сброс. Многокилометровый массив отделился от Ай-Петри гигантской трещиной-каньоном и зажил самостоятельной жизнью.
Крымский Большой каньон не был бы большим, если б не речка Аузун-Узень, которая потрудилась, что называется, на совесть. Кстати, она и сейчас в работе. Не исключено поэтому, что грядущие поколения будут проходить по ущелью еще более глубокому.
А сейчас полезем в трубу. Каньон в переводе с испанского и означает «труба»… Перепрыгиваем говорливую Сары-Узень, переходим по камням Кокозку, минуем котлован, заросший вязом, грабом и буком, берем с ходу (в который раз!) подъем и выходим к дубу-почтамту.
Могучий пятисотлетний дуб — достопримечательность каньона. В его дупле находится «почтовый ящик», и каждая группа туристов считает своим долгом описать впечатления и вложить описание в «ящик». Наша группа вложила самое лаконичное послание: «Восхищены!» На такой формулировке настоял профессор Гришаев. Он сказал, что, сколько б эпитетов мы ни напридумали, все равно будет недостаточно. Так не лучше ли ограничиться одним словом, выражающим «суть вопроса»?..
Большой каньон славится своими растениями. Нигде в Крыму нет такой тисовой рощи, как здесь. Встречаются в нем и ботанические редкости: реликтовая иглица подъязычная, папоротник-листовник сколопендровый, эндемичные камнеломки… Но не только редкости. В изобилии растут бук, ясень, липа, клен, рябина, кустарники кизила и барбариса, крушины и скумпии.
Действительно, правы туристы из Пензы, написавшие: «Красотища!». И красоту эту создают деревья и кустарники, цветы и травы… Мы прошли по особенному Крыму — горно-лесному, который совсем не похож на Крым южнобережный с его пляжами и дворцами. Склоны гор, по которым пролегал наш путь, всюду покрыты буком и соснами, грабом и дубняком. Красотища!
Тропа, бегущая то вверх, то вниз, выводит нас к Яблоневому броду — здесь речка Алманчук, что тоже означает «яблоневая», впадает в Кокозку. Перепрыгиваем с камня на камень и выходим к так называемым «ваннам», водоемам с очень холодной водой. Всего плюс восемь градусов в самую жару. Принимают эти «ванны» только закаленные. Моржи!
«Ванн» в каньоне множество. Некоторые из них в диаметре достигают пяти-шести метров и двух-трех метров глубины. И таких впадин насчитывается более ста пятидесяти.
Сергей Вересов опускает руку в одну из мелководных ванн и достает круглый — копия бильярдного шара — камень-кругляк.
— Смотрите, этим инструментом природа и работает.
— Как так?
— А вот так. Вначале речной поток, падая с высоты, выдалбливает в камне небольшую лунку, а потом в эту лунку вода приносит камень. Вращаясь вместе с водой, камень углубляет лунку и сам становится круглым. Потом в эту ямку, ставшую уже значительно большей, попадает более крупный камень, и опять происходит работа. Непрерывная…
Есть такое поверье, что тот, кто искупается в «ванне молодости» (название стало почти официальным), сбрасывает со своих плеч минимум пяток лет. Рассказывают: жили когда-то старик со старухой на горе Бойка. Пошел однажды старик в каньон по дрова и провалился в одну из ванн. Ждет-пождет старуха своего деда, а его все нет и нет. Наконец является к вечеру. Полно, да муж ли это? Только по одежке и признала — молодым стал дед.
И рассказал он старухе своей, что искупался нечаянно в «ванне» и помолодел. Сломя голову побежала старуха в каньон и… бултых в воду!..
А дед-молодец с нетерпением стал ждать свою старуху-молодуху.
День проходит, другой… Нет ни старухи, ни красавицы-девицы. И отправился он на поиски. Подошел к «ванне молодости» и на камне обнаружил груду бабкиных одежд, а среди тряпья что-то шевелилось. Развернул и… увидел розовощекого младенца. Перекупалась жадная старуха… А человек во всем должен соблюдать меру.
У «ванны молодости» и заканчивается наш путь. Возвращаемся. Теперь ближайшая цель — ресторан «Каньон», там приготавливают замечательные шашлыки. И пусть на турбазе нас ждет отличный обед из трех блюд, мы его пропустим — быть в Крыму и не попробовать крымских шашлыков! Этого турист потом себе не простит…
Грустно расставаться с турбазой, которая была твоим домом целых четыре дня, но надо. На наши места придут новые туристы, а мы должны пробираться к Черному морю.
От Соколиного до Ялты
Мы вышли до восхода солнца и натощак. Сытые желудки на такую верхотуру, какую нам придется преодолеть, было бы не поднять. Три километра подъема! Но зато мы увидим пещеру Данильча-Коба, Для многих из нас это будет впервые в жизни.
«Что особенно замечательно в пещерах, — писал академик А. Е. Ферсман, — это их наряд украшений, иногда пышное убранство — то из белоснежных узоров, то из длинных, свешивающихся сверху сосулек, гирлянд, занавесей. Белые, желтые, красные минералы своими отложениями покрывают стенки пещер; в их причудливых формах — таинственные диковины, напоминающие то фигуры каких-то застывших великанов, то кости гигантских ящеров…»
Не буду рассказывать, как мы преодолели очередной подъем, только замечу: усилия, затраченные нами, равнялись усилиям человека, втаскивающего рояль на пятый этаж дома. Однако пещера вознаградила нас сполна за все, обеспечила тенью, напоила водой, раскинула перед нами воспетые академиком Ферсманом дива-дивные… Дива-дивные, но слегка подпорченные. А если откровенно — сильно подпорченные… Где вы сейчас находитесь, горе-туристы, изувечившие пещеру Данильча-Коба и множество других крымских пещер? Где обещанные путеводителями сталактиты и сталагмиты? Где? В какую сторону Союза они уплыли и в каких квартирах сейчас пылятся?.. Сделано черное дело — обломано все, что можно обломать, и унесено все, что можно унести… Миллионы лет трудилась природа, создавая эти подземные музеи, эту красоту. И в течение всего нескольких лет красота была стерта безжалостными руками дикарей.
Может быть, «закрыть» пещеры? Отвести в сторону туристскую тропу? (Между прочим, так сейчас и сделали: от «Орлиного залета» до Ай-Петри туристов везут автобусом). Но тогда мы обидим тех людей, которые уносят отсюда красоту в сердце своем. Если пещеры нельзя «закрыть», то необходимые меры нужно принять немедленно. По-видимому, есть смысл оградить вход в пещеру и впускать туда только с инструктором. Так делают в Югославии, в Чехословакии, в Болгарии. Так сейчас делается в Кунгурской пещере на Урале. Молодцы, уральцы! Но, честное слово, Кунгурская пещера по красоте своей не может равняться с крымскими. Это говорят сами уральцы…
И тут раздается голос скептика:
— Ну, а кроме красоты неописуемой, какую практическую ценность представляют пещеры?..
Не надо возмущаться, не надо смотреть косо на «скептика», возможно, он прав. Ведь существует такая категория людей, для которых слова «сталактиты и сталагмиты» не больше как звук, а пещеры — камень мертвый. И такие люди, захваченные модой, тоже стали на туристскую тропу. Может быть, когда они узнают, для чего нужны крымские пещеры, то перестанут рубить сук, на котором сидят? Во всяком случае, такую попытку сделать необходимо…
Так для чего нужны крымские пещеры?
В Крыму открыто немало пещер с довольно значительным запасом воды. Пещеры нужны гидрогеологам! Знать водные артерии необходимо, чтобы уметь правильно распорядиться подземными реками. А кто скажет, что в Крыму водный вопрос уже решен?
Пещеры нужны археологам! Многие из пещер сами по себе памятники прошлого, многие из них связаны с самыми разнообразными и разновременными находками, представляющими для науки огромную ценность.
Пещеры нужны биологам и палеонтологам! В крымских пещерах найдены кости мамонтов, пещерных носорогов, львов и медведей, бобров и лососевых рыб…
Наша первейшая задача — отвести руку дикаря от крымских пещер!
…Завтрак и — снова в путь. Сегодня необходимо добраться до Ай-Петри. В одном из путеводителей сказано: «Путешествия на Ай-Петринское нагорье дают возможность увидеть величественные горы, прозрачные стоки рек и водопадов, дикую красоту ущелий, таинственный мрак пещер…»
Итак, мы у цели. Но что это такое? Оборотная сторона луны? Сердцевина Везувия? Где обещанные путеводителем красоты?..
Впереди нас безлесное пространство и безжизненная равнина с пористыми, будто изгрызенными холмами. Сергей Вересов улыбается:
— Природа специально создала это нагорье для сравнения. Если постоянно есть булку с изюмом, то забудешь даже запах черного хлеба. А если говорить серьезно, то не только Ай-Петринское нагорье, но и вся Главная гряда в верхней, заметьте, в верхней, части сложена известняками. Перед нами классический карстовый район страны.
— А что такое карст? — спросил Ярославцев.
— Такой термин еще в XIX веке ввели хорватские географы. Правда, они говорили «крас», но в науке это понятие прижилось в немецком произношении — «карст». В Югославии есть подобное плато под названием Крас — это своеобразный эталон… Но я лично считал бы эталоном Ай-Петри… Еще в начале XX века карстом заинтересовался известный физико-географ А. А. Крубер. В одном из своих трудов он писал: «В пределах Европейской России едва ли какая-нибудь местность представляет такую благодатную почву для ознакомления с карстовыми явлениями, как крымская яйла».
В разговор вступает профессор:
— А что говорят крымоведы о яйлинской растительности? Точнее сказать, об ее отсутствии. Ведь эти кустики шибляка не назовешь же растительностью…
— Совершенно верно. А вот чем это вызвано? По мнению ученых, по крайней мере большинства, — тяжелыми природными условиями… Но мы-то с вами знаем, что есть районы не менее трудные, такие, как мыс Айя, но и лесистые! Поэтому ученые к «тяжелым природным условиям» добавляют: «и неразумная деятельность человека». Во-первых, леса Крыма хищнически уничтожались, а во-вторых, на горных плато паслись десятки тысяч овец. В течение сотен лет овцы выщипывали растения, разбивали копытами дерн, а ливневые дожди легко размывали разрыхленную землю. Что все происходило именно так, подтверждает Никитская яйла. Была она, как две капли воды похожа на Ай-Петринскую, но еще в первые годы Советской власти на ней был запрещен выпас скота и распашка участков под огороды, и результат налицо: появились горные луга, буковые рощи, грабинник. Даже более нежные деревья — ясень, липа, клен…
Множество тропинок протоптано на Ай-Петри — запутаться можно. Но Вересов отыскивает одну-единственную, и мы выходим к приюту «Ай-Петри». Отдых, обед, и можно совершать вылазки…
Подъем в приюте «Ай-Петри» не объявляют, но рассвета никто не проспит. Восход солнца здесь — зрелище незабываемое. И многие «штурмуют» Ай-Петри только для того, чтобы встретить на его вершине новый день.
Чуть заалело на востоке, и десятки людей, закутанные в простыни, одеяла, накидки, платки — холод предутренний на Ай-Петри жуткий! — усаживаются на гребне горы, чтобы быть как можно ближе к солнцу и терпеливо ждут, когда оно — солнце, огромное и недосягаемое, — заиграет в полную силу, пробудит от спячки все живое и окрасит море-небо-небо-море в самые нежнейшие тона и оттенки…
Завтрак в приюте «Ай-Петри» и последний переход-спуск к водопаду Учан-Су. От водопада специальный автобус доставит туристов на ялтинскую турбазу…
Вот он, прославленный всеми крымскими путеводителями водопад Учан-Су — Летящая вода! Мы были подготовлены к тому, что это самый мощный водопад в пределах Главной гряды. И что вода низвергается с высоты девяноста метров… Профессор Гришаев даже прочитал вслух известные стихи Ивана Бунина:
Свежее, слаще воздух горный.
Невнятный шум идет в лесу;
Поет веселый и проворный
Со скал летящий Учан-Су!..
Несется вниз струя живая.
Как тонкий флер, сквозит огнем,
Скользит со скал фатой венчальной
И вдруг, и пеной и дождем
Свергаясь в черный водоем,
Бушует влагою хрустальной…
По-видимому, Иван Бунин смотрел на водопад не в летний зной. Увы, летом водопад «отдыхает». Летом он питается больше славой, чем водой. Скудеет водопад. Известный географ, большой знаток Крыма Евгений Марков утверждал, что в 1787 году водопад достигал трехсот метров. И причиной его оскуднения Марков считает все то же хищническое истребление леса, уничтожение трав на яйле…
Сейчас на Ай-Петринском плато много посадок, и остается ждать, что водопад обретет силу и в летнее время…
Гришаев утешает нас:
— Ничего, мы и осенью приедем сюда…
— Приедем, обязательно приедем.
Но и сейчас здесь здорово! Тишина и густой, настоянный на хвое воздух. А сосны здесь огромные, словно вобравшие в себя жизнь тех сосен, которые исчезли с Ай-Петри…
Прибыл автобус за нами, и звук сигнала улетел далеко в горы… До свидания, Учан-Cy! До свидания, пройденные пути-дороги и тропы!.. До свидания! Мы еще вернемся сюда… До свидания! И здравствуй, Ялта!